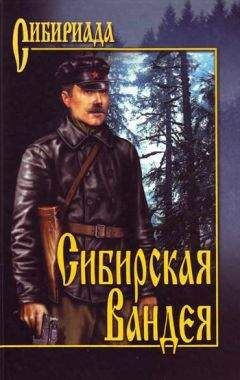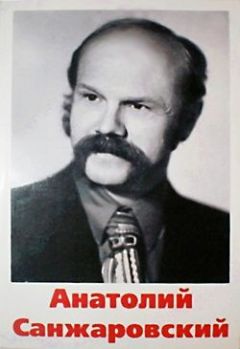Дмитрий Барчук - Сибирская трагедия
С Дальнего Востока премьер возвращался в скверном настроении. Хотя и удалось убедить Хорвата признать главенство Омска, и владивостокские министры перестали предъявлять свои претензии на власть. Более того, и союзники сменили гнев на милость и пообещали не только занять миллиард рублей Сибирскому правительству и поставить военную амуницию, но даже направить свои войска на Урал.
Однако Муромский им не верил. Его смущала зыбкость и неопределенность сложившейся ситуации. Он часто замыкался в себе и всю дорогу повторял одну и ту же фразу:
– Никому нельзя верить. Никому!
И только в Чите после встречи с томским купцом Вытновым, дела которого Пётр Васильевич вел, будучи еще присяжным поверенным, он чуточку повеселел, и на щеках его появился румянец.
– Оказывается, одни мои бывшие клиенты продают свои каменноугольные копи японцам за 80 миллионов иен, – радостно произнес он, потирая руки. – Событие обнадеживающее. Если японцы покупают предприятия в Сибири, то надеются на сохранение здесь порядка.
И добавил:
– А ведь это я утверждал их в правах наследства, и они обещали мне особый гонорар в случае продажи копей.
Наш поезд задержали на разъезде перед самым Омском. Прошло полчаса, Муромский не выдержал томительного ожидания и отправил меня выяснить причину у начальника состава.
Старый седовласый железнодорожник с большими усами, как у Тараса Бульбы, недовольно пробурчал:
– Перед нами на первый путь поставили пассажирский из Екатеринбурга. Там много беженцев с большим багажом. Потому высадка идет медленно.
– Пётр Васильевич – человек не гордый. И он так соскучился по семье, что согласен сойти хоть на втором, хоть на третьем, хоть на десятом пути, лишь бы поскорее увидеться с женой и дочерью.
– Ничего не получится, – сердито ответил железнодорожник. – Я уже запрашивал станцию. Они отказали. На втором пути у них живут в вагонах прибывшие из Уфы члены Всероссийской Директории. На третьем стоит воинский эшелон с чехословаками. И его подвинуть нельзя, это, видите ли, охрана Директории. На остальных путях разместились миссии союзников, опередившие нас по дороге с Дальнего Востока. Поэтому остается только ждать, пока выгрузятся беженцы.
Но ждать не пришлось. Я не успел дойти до вагона премьера, как состав резко дернулся, а потом медленно стал набирать ход.
Весь перрон и впрямь был завален чемоданами, узлами и баулами, меж которых подгоняемые казаками под тяжестью поклажи сновали интеллигентного вида мужчины и женщины, вынося вещи за территорию станции.
Среди этого разномастного людского моря под огромным бело-зеленым знаменем возвышался выстроенный в торжественном порядке взвод почетного караула, а большая лысая голова Ивана Иннокентьевича Золотова сверкала на осеннем солнце. Через открытое окно доносились отзвуки торжественного марша, исполняемого духовым оркестром.
Премьер расцвел. Его самолюбию польстила такая встреча.
Он схватил с полки свой саквояж, распахнул дверь купе и внезапно замер на месте. Я испугался, что Петру Васильевичу стало плохо, и бросился поддержать его. Но вскоре понял причину его замешательства.
На соседнем пути, совсем рядом с нами, на расстоянии вытянутой руки, стоял сияющий свежей краской новенький салон-вагон, как у нас, только гораздо роскошнее, под российским бело-сине-красным флагом. А в окне напротив мы увидели настороженное вытянутое лицо с интеллигентской бородкой.
Муромский опомнился и вежливо кивнул. Человек из соседнего вагона на приветствие не ответил, а наоборот, скрылся в глубине и задернул шторку.
Я узнал его. Ведь его портреты печатались во всех газетах. Это был председатель Всероссийской Директории Авксентьев[146]. Муромский узнал его тоже.
Полины на вокзале не было. Меня это сильно задело, ведь всех остальных членов делегации встречали семьи. Я старался не смотреть на чужие поцелуи и слезы радости, а все глядел по сторонам, выискивая свою любимую. А когда понял, что ее нет, спросил разрешения у Муромского на отлучку до завтрашнего утра, поймал первого попавшегося извозчика и поспешил домой.
Картина, которую я застал на съемной квартире, меня смутила еще более. Дома было грязно и неприбрано, чего за своей женой я прежде не замечал. Она всегда любила чистоту и порядок. Я уже решил, что ее вообще нет дома, но вдруг услышал из спальни детский плач. Со всех ног я бросился туда.
Полина склонилась над люлькой и, как заведенная, качала из стороны в сторону плачущего Петеньку. Она повернулась на скрип двери и, увидев меня, отстраненно произнесла:
– Как славно, что ты вернулся. У мальчика скарлатина. Жар не спадает третий день.
– А что говорит доктор? – взволнованно спросил я.
– Доктор сказал, что сейчас кризис. Если малыш не умрет, то пойдет на поправку.
– Что?! – у меня язык прилип к нёбу. – Это не доктор, а шарлатан какой-то. Настоящие врачи так не говорят. Я сейчас же позвоню Муромскому. Он пришлет своего врача.
Полина покачала головой:
– Напрасно. Это и был профессор, консультирующий Петра Васильевича.
Я подошел к сыну. Он забылся и тяжело дышал. Я положил свою ладонь на его красный, нахмуренный лобик и чуть не одернул ее: настолько он был горяч.
– О Боже! – вскрикнул я.
А жена сразу как-то засуетилась, стала куда-то собираться.
– Точно. Это – единственная надежда, – шептала она себе под нос.
– Ты куда?
– В церковь! – отрезала она. – Только Он, – она подняла палец вверх и ткнула им в потолок, – может спасти нашего малыша.
Мне повезло. Петруша не проснулся. Хотя жена отсутствовала часа три. А когда вернулась, жар у ребенка спал. Вскоре он закричал во все горло, требуя еды.
Полина накормила сына через соску из бутылочки жидкой манной кашей, а когда он, сытый, заснул здоровым сном, села на стул возле стола и обхватила свою голову руками.
– Какая же я дура! – запричитала она. – Чуть не убила собственное дитя.
Потом бросила на меня гневный взор и заявила:
– А ведь он занемог в тот день, когда твои сотоварищи убили Новосёлова. Скажи, в чем он провинился перед вами? Милейший, очень воспитанный, образованный человек. Сибирский областник, кстати. Ведь он вместе с нами ходил на журфиксы к Потанину, писал стихи и рассказы. Его беда была лишь в том, что он не сумел, как остальные хамелеоны, вовремя сменить окраску и остался верен идеалам революции. Какие вы белые? На вас уже крови не меньше, чем на большевиках!
– Ты прежде думай, а потом говори! – ударил я кулаком по столу и вскочил.
– Красные ввели террор в систему. Для них это обыденная практика – убивать ни в чем не повинных людей. Для нас это – досадные эксцессы. Поверь, мне так же жалко Новосёлова, как и тебе. Во Владивостоке я даже ходил в церковь на панихиду по нему. Он оказался жертвой политического заговора, пешкой, которой пожертвовали в большой игре. Эсеры хотели повсеместно захватить власть. В Уфе вынудили Золотова признать главенство действующего Учредительного собрания. Спровоцировали Сибирскую областную думу на противоправительственные действия. А Новосёлову с компанией отводилась задача прибрать к рукам исполнительную власть, пока Муромский на Дальнем Востоке, а Золотов на Урале. Чтобы и в Сибири развести новую керенщину.
Полина испуганно посмотрела на меня. Я понял, что перегнул палку, и примирительным тоном сказал:
– Пойми, дорогая, Сибирь прожила все лето без войны, воссозданы государственные институты. В этом огромна роль таких людей, как Муромский. Спокойных созидателей, а не разрушителей – горлопанов типа…
Я хотел сказать «Новосёлова», но вовремя спохватился, что о мертвых надо говорить либо хорошо, либо никак, и произнес вслух:
– …моего старого товарища Чистякова. Ты пойми, что истинными продолжателями дела Потанина являются Муромский и Золотев, а не Шаталов и Петушинский.
Видя, что жена начала успокаиваться, я продолжил:
– Сейчас у Сибири уникальный шанс – обрести свою независимость. Пусть мы пока говорим об автономии, но это вынужденная дань текущей политической ситуации. Все, о чем мечтали Потанин и Ядринцев, может и должно осуществиться.
– И ты всерьез веришь в эту мечту? – скептически произнесла Полина.
– Да, дорогая. Если бы не верил, то давно бы увез вас с Петей отсюда. Но я не могу бросить Муромского и Золотова на полпути, не могу предать потанинские идеалы.
По лицу Полины скользнула виноватая улыбка. Она встала из‑за стола, подошла и обняла меня.
– Прости, – тихо прошептала жена. – Я сильно переживала и за сына, и за тебя. Вот и сорвалось.
– И ты меня прости, дорогая…
Она погладила меня по голове и предостерегла: