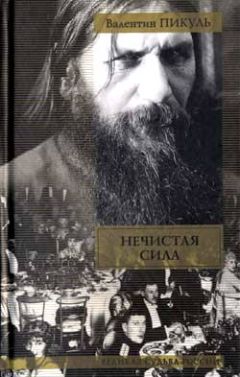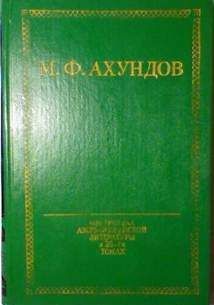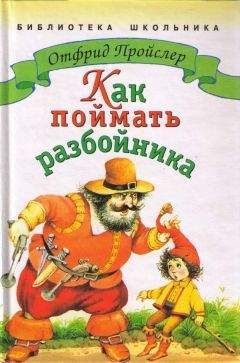Валентин Пикуль - Нечистая сила
Было жарко. За раскрытыми окнами плавился раскаленный Петербург, шипели струи воды из брандспойтов дворников, обливавших горячие булыжники мостовых, по которым сухо и отчетливо громыхали колеса ломовых извозчиков.
В двери кабинета просунулась голова дежурного курьера Оноприенко.
– Дозволите ввести? – спросил он.
– Да. Пусть войдет или – точнее – вползет…
Об этом свидании сохранился рассказ самого Столыпина: «Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил загадочные и бессвязные изречения из Священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине… Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему НЕМЕДЛЕННО, БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО И ПРИТОМ ДОБРОВОЛЬНО ПОКИНУТЬ ПЕТЕРБУРГ, вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться…»
Распутин на прощание неожиданно сказал:
– Но я же беспартейнаай! – И захлопнул двери.
– Он, видите ли, вне партий, – возмущался Столыпин. – Можно подумать, я больше всего боюсь, как бы он не пролез в ЦК кадетской фракции.
А ваше мнение? – спросил у Курлова.
– Варнак, конечно, – помялся жандарм. – Но лучше бы вы с ним не связывались. Что вы ему инкриминируете? То, что он в баню не один ходит? Так это его личное дело. А завтра я пойду с бабой в баню. Вы и меня потащите с курьером Оноприенко?
– Нет, – возразил Столыпин. – Все сложнее. Чувствую, что с этим Распутиным власти еще предстоит немало повозиться…
Вскоре выяснилось, что Гришка, дискредитируя премьера, в Сибирь не поехал. При очередном свидании с царем Столыпин заметил на лице самодержца блуждающую усмешку… Его, презуса, оскорбляли! Скомкав служебный день, он отъехал на нейдгардтовскую дачу – в Вырицу, до вечера сидел в скрипящем соломенном кресле, закручивая усы в кольца. В сторону затуманенной речки, названивая на гитарах, прошла компания вечно юных студентов и милых барышень-курсисток… Счастливые люди – им было хорошо.
Да, выходит, пели мы недаром, Не напрасно ночи эти жгли.
Если мы покончили со старым, знать, И ночи эти отошли.
Дааро-огой длиннааю, Да ночью лунною, Да с песней той, Что вдаль летит, звеня, Да со старинною, Да с семиструнною, Что по ночам…
За спиной премьера послышался резкий стук костылей – на веранду вышла безногая дочь Наташа, а под локоть ее поддерживал красивый лейтенант флота (жених!). Что ж, жизнь продолжалась… Из темной зелени ревели неугомонные граммофоны, над крышами дач расплескивало за полночь сладостный сироп собиновского тенора: «Дышала ночь восторгом сладострастья…» А из отдаления, со стороны станции, неслось родимое, такое ветхозаветное и всем знакомое: «Карауул! Грааабят…»
– Черт знает куда смотрит наша полиция, – сказал Столыпин, председатель Государственного Совета, он же и министр внутренних дел (завтра у него второе свидание – тоже опасное).
* * *
За полчаса до прибытия поезда премьер уже прогуливался по доскам вокзального перрона – в светло-серой шинели, в дворянской фуражке, обрамленной красным околышем. В числе путейцев, носильщиков и публики Столыпин наметанным глазом определял агентов охранки, обязанных подставить свою грудь под пули, которые будут направлены в него – в государственного мужа… Все было в порядке вещей, и Столыпина уже трудновато чем-либо удивить. Наконец запыленный поезд вкатил зеленые вагоны под закопченные своды Николаевского вокзала. Столыпин еще издали помахал фуражкой – рад, р-рад, р-р-рад! Из вагона вышел мужиковатый человек в кургузом пиджачишке, помогая сойти на перрон детям, следом появилась сухопарая некрасивая дама.
Это прибыл Степан Петрович Белецкий.
Столыпин поцеловал руку его жены, погладил малышей по золотистым головкам, молча двинулись к царскому павильону, в тени которого премьер вел себя по-хозяйски, почти по-царски.
– Эту даму с детьми, – наказал метрдотелю, – накормите из буфета, дайте им помыться после дороги… Ольга Константиновна, извините, но вашего Степана я забираю для важного разговора!
Они уединились в отдельной комнате павильона. Белецкий чувствовал себя страшно скованно, попав из самарской глуши сразу в царскую обстановку, где сам (!) премьер империи наливает ему рюмочку арманьяка. Столыпин знал, что делает, когда вызвал Степана в столицу. В этом притихшем чиновнике скрывалась потрясающая (полицейская!) память на мелочи. Умный.
Бескультурный. Вышел из низов. Лбом пробил дорогу. Короткие пальцы. Желтые ногти. Чувствителен к взглядам: посмотришь на руку – прячет ее в карман, глянешь на ногу – подволакивает ее под стул. Нос пилочкой. Глаза влажные, словно вот-вот пустит слезу. На пальце колечко (узенькое). Чадолюбив. С хохлацким акцентом: «телехрамма», «хазеты», «хонспирация», «Азэхф»… Таков был Степан Белецкий.
Поначалу премьер расспросил его об аграрных волнениях в провинции.
Белецкий отвечал даже со вкусом, рад поговорить:
– Пятый ход похазал, што такое русский мужик. Посмотришь: вроде хонсервативен. Но хогда дело хоснется чужого добра, тут он сразу социал-демократ, да еще хахой! Знаю я их… сволочей. «Давай дели на всех…
Нашей хровью добытое! Ишь, дворцов понаделали. Бей, хруши, ломай… все наше будет!»
Столыпин, горько зажмурившись, с каким-то негодованием всосал в себя тепловатый коньяк. Долго хрустел золотою бумажкою царской карамели. Мимо окон павильона прошел дачный поезд – петербуржцы, обремененные кладью, спешили к лесам и речкам, ища отдохновенной прохлады… Столыпин заговорил по делу:
– Мы живем в такое подлое время, когда все хорошие люди говорят горам высоким: «Падите на нас и прикройте нас…» Я тоже хочу прикрыться! Не знаю, откуда посыплются пули – слева или справа? В конце-то концов это даже безразлично… Поверь мне, Степан: мне давно наплевать, где подписан мой приговор – в ЦК партии эсеров… или на Фонтанке, в департаменте полиции!
– Белецкий спросил, не боится ли он ездить в Думу. Столыпин ответил, что на втором этаже Таврического дворца, по секрету от думцев, для него сделана блиндированная комната. – Но никакая броня не спасет. Мне нужен свой человек на Фонтанке…
Да! Столыпин и не скрывал, что, выдвигая Белецкого, хотел нейтрализовать в МВД влияние генерала Курлова, ибо в нем видел не только соперника, но и врага…
Потом семья Белецких ехала в наемной коляске.
– Что он тебе сказал? – спросила жена. Белецкий пребывал в некотором ошалении.
– Ты не поверишь! Я заступаю пост вице-директора департамента полиции… Мне хочется плакать от счастья. Подумай: сын народа, щи лаптем хлебал, зубами скрипел, так мне было, и…
Он вверг жену в страшное отчаяние.
– Степан, умоляю – не соглашайся!
– В уме ли ты, Ольга?
– Ты пропадешь, Степан, а я пропаду с тобою.
– Чушь! – отвечал он.
– Это катастрофа… это конец нашей жизни. Тебе хочется вываляться в полицейщине, как в луже? Прошу, откажись.
– И вернуться вице-губернатором в Самару?
– Хоть на Камчатку, но только не полиция.
– Ольга, – твердо сказал Белецкий, – ты женщина, и ты ничего не понимаешь. Я должен делать карьеру. Ради тебя. Ради детей. Ради куска хлеба под старость… Для кого же я стараюсь?
Через день Столыпин позвонил Белецкому – спросил, как он чувствует себя на Фонтанке? Степан отвечал премьеру:
– Ну и ну! Курлов глядит так, будто я ему долгов не вернул. Здесь даже не бегают, а носятся по коридорам как угорелые кошки… Вижу, что попал прямо в парилку. Вот только жена беспокоится, как бы чего не вышло!
Столыпин не сказал ему, что мужья должны слушаться своих жен. Женщины предчуют беду лучше мужчин – сердцем.
* * *
Осенью 1910 года весь русский народ отмечал небывалый праздник, вошедший в нашу богатую историю под названием Первой Всероссийский Праздник Воздухоплавания. Пилоты напоминали тогда птичек, летающих внутри своих порхающих клеток. Чуткий поэт Александр Блок уже давно прислушивался к новому шуму XX века – это был шум работающих пропеллеров:
Его винты поют, как струны.
Смотри: недрогнувший пилот К слепому солнцу над трибуной Стремит свой винтовой полет.
Подлинным асом показал себя летчик Н.Е.Попов, который достиг небывалой высоты – шестисот метров; он же побил все рекорды продолжительности полета, продержавшись в воздухе два часа и четыре минуты! «Для него, – с восторгом писали газеты, – не существует невозможного в авиации». Полиция на всякий случай тут же установила «Правила летания по воздуху», что дало повод выступить в Думе депутату Маклакову: «Не понимаю, как полиция мыслит себе контроль за правильностью полетов? Я думаю, в конечном итоге это будет выглядеть так. Летит, скажем, Уточкин или Заикин, а за ними геройски ведет аэроплан жандармский генерал Курлов и грозным окриком, как городовой на перекрестке, делает им замечания…» Следом поднялся на трибуну иронический Пуришкевич: «Я понимаю тревогу своего коллеги Маклакова. Но полиция, заглядывая в будущее, поступает правильно. А то ведь, сами знаете, господа, как это бывает… Найдется какой-нибудь Стенька Разин, который раскрутит свой пропеллер, взлетит на недосягаемую для смертных высоту и шваркнет оттуда пачку динамита на Царское Село с его венценосными жителями. Тогда мой коллега Маклаков громче всех будет кричать о том, что у нас безобразная полиция, которая ест хлеб даром… Я – за полицию даже под облаками!»