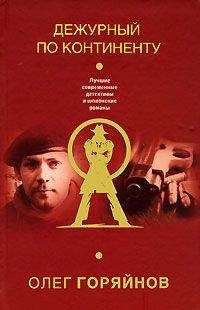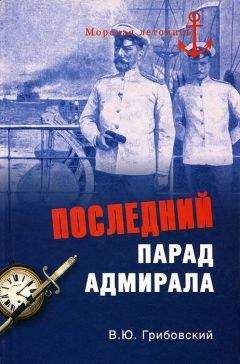Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
Голштинец голос свой подал об игре Троепольской.
— Это любопытно.
— Важная баба, говорит, горластая и прочее, а все же супротив графини Елизаветы не сдюжит… Э-хе-хе… Погибнем мы с этим голштинцем, как швед под Полтавой. Не дай бог, с матушкой что случится! И нам тогда, батюшка, конец… А что поделаешь? Персона. Коли нет ходячих, то и сидень в чести. Тьфу! Какая-то гадкая плесень, прах ее побери! — выругался он, набив до отказа нос табаком и все же отчаявшись чихнуть.
Помолчав, Сумароков покрутил головой. Сказал, прищурившись:
— Слышь-ка, Федя… Не могу я вычихнуть этого голштинца из головы… Как ты думаешь? С бабским правлением все же лучше. Они хоть по-матерному при всех не ругаются и в драку не лезут. Глядь, ан и жить спокойнее. Катиш — баба ничего… И думает тем местом, которым думать назначено. Постой, постой! Не говори под руку! — замахал он на Волкова руками.
Сумароков, наконец, оглушительно чихнул несколько раз. С удовольствием крякнул. Промолвил:
— Правильно. Я кое-что загадал… До голштинца, полагаю, все же не дойдет…
Сумароков начал часто бывать у Троепольских. Иногда неловко и неумело улещал и соблазнял их прелестями жизни в придворной труппе.
— А наше условие, Александр Петрович? — недовольно говорила Троепольская в таких случаях.
— Условие держу свято, Татьяна Михайловна. Сие так, к слову пришлось. Уж очень бы вам хорошо было у нас. Как у Христа за пазухой. Ну, не извольте гневаться, молчу…
Волков затащил его как-то в Немецкий театр на «Фоллетто». Александр Петрович весело хохотал.
— Здесь собрана глупость со всего света. Как раз по зубам голштинским генералам с их батькой.
Сидя у Троепольских и умильно глядя на Татьяну Михайловну, не мог удержаться, чтобы не высказать своей оценки:
— Непролазное болото глупости. И среди него барахтается беспомощно один умный человек: это — вы. Меня печалит такая картина.
— А меня ничуть, — сказала Троепольская. — Приятнее быть первым среди глупых, чем последним среди умников.
— Бог с ними! Только не я буду… Ну, да ладно, молчу.
Александру Петровичу очень полюбилась Грипочка Мусина. Девочка почувствовала к нему взаимную симпатию. Почти не отходила от него. Взяла на себя заботу следить за исправностью его туалета. То и дело приглаживала парик, охорашивала завивку, наблюдала, чтобы не сидел косо. Аккуратно запрятывала внутрь выбивающиеся рыжие косички. Александр Петрович машинально ловил ее ручки и целовал. Когда в горячем споре Сумароков сдергивал с себя парик и начинал им размахивать, Грипочка внушительно урезонивала его:
— Александр Петрович, сия штука устроена не для маханья. Голову так же неприлично разувать, как и ноги. Сделайте милость, обуйтесь. Позвольте, я помогу… Другим надлежит думать, что сие есть ваши собственные кудри. Такова должность парика. Снимать его в гостях — все равно как бы снимать свои волосы. Посидите малость спокойно.
Александр Петрович кротко отдавал свою голову в распоряжение Грипочки. Та любящими руками приводила ее в порядок.
Много внимания уделялось манишке и манжетам Сумарокова, всегда обильно припудренным табаком. Грипочка после каждой понюшки сейчас же обмахивала манишку Сумарокова платочком. Сама чихала и приговаривала:
— На здоровье, Агриппина Михайловна! Вы нюхаете дюже крепкий табак. Апчхи! Кошель червонцев и генеральский чин вам!
Сумароков хохотал и тормошил девочку.
— Какая ты прелестная кукла!
Он подарил Грипочке несколько своих пьес. Заставлял ее декламировать. Девочка читала только сносно, но Сумароков находил ее чтение превосходным. Подучивал:
— Напевнее! Вальяжнее! С растяжкой!
В восторге кричал Троепольской:
— Татьяна Михайловна! Ваша кукла — совершенство! Я ее у вас утащу. Повезу в Петербург. Вторую Лекуврёршу из нее сделаю.
— Она и впрямь охотится в актрисы, — промолвила Троепольская. — Только грамоте получиться не мешает.
— Все будет. Мы скоро школу заведем на заграничный манер. Всех актеров учить будем.
Грипочка была довольно острой девочкой. Некоторыми ее замечаниями и словечками Сумароков восторгался сверх меры.
Однажды Троепольский и Волков вполголоса о ком-то беседовали.
— Чем ему не жизнь? — говорил Троепольский. — Сыт, пьян и нос в табаке.
— Я знаю, о ком речь, — хитро сказала Грипочка. — Нос в табаке у Александра Петровича.
Сумароков так хохотал, что чуть не свалился со стула. Едва Сумароков брался за табакерку, как Грипочка мягко отнимала ее.
— Нельзя так часто, замарашка. Только не досмотри…
Однажды от одного из ее милых словечек Сумароков пришел в восторг, схватил девочку, поднял ее на воздух и принялся кружить по комнате.
— Извольте меня поставить на пол, Александр Петрович! — закричала Грипочка. — От вас поднялось целое облако табаку. Я боюсь расчихаться.
Девочка оправляла смятое платье и недовольно ворчала:
— Совсем примяли мое платье. Вы полагаете, я и впрямь тряпочная кукла? Тряпочной ваш табак полезен, — моль не съест, а живому — смерть. Сестрица, вы заметили? С тех пор как нас изволит посещать Александр Петрович, у нас вся моль исчезла. Вы средство от моли, господин трагик, вот вы что. Про вас надо комедию сочинить.
— И сочиним! — захохотал Сумароков. — Так и назовем: «Средство от моли».
— Во дворце, говорят, моли видимо-невидимо. И прочих насекомых, — продолжала Грипочка. — Я понимаю теперь, почему государыня всех табакерками дарит. Чтобы насекомых уничтожали.
На аршин расстояния
В последних числах августа, в ясный солнечный день, Сумароков повез Грипочку и Троепольского осматривать Петровский дворец. Татьяна Михайловна осталась дома, чтобы присмотреть за обедом.
Они что-то долго задержались с осмотром. Троепольская то и дело выглядывала в окно, прислушиваясь, не дребезжит ли вдали карета Александра Петровича, которую слышно было за несколько улиц.
Пришел Волков. Поздоровался, спросил, где все. Татьяна Михайловна объяснила.
Волков был в подавленном настроении. Выходя из театра еще утром, он встретился с каретой Елены Павловны. Она приказала кучеру остановиться, выглянула из окна.
— Какой чудесный день! — сказала она. — А еще чудеснее, что я свободна на целый день. Сейчас за городом хорошо. Не дурно было бы проехаться туда, где мы были тогда… помнишь? Как-то там все выглядит под осень? Осталась ли хоть капля прежнего очарования? У тебя нет желания составить мне компанию?
— К сожалению, у меня нынче много хлопот, — нерешительно сказал Федор.
— Понимаю. Хлопоты — они сушат человека. У вас и вид сегодня неважный. Что ж, идите, хлопочите, желаю успеха… Трогай, Андрон!
Карета уехала. Федор долго бродил бесцельно по ближайшим улицам, досадуя и на свою ложь и на неловкий ответ.
От этого настроения он не мог избавиться целый день. С ним пришел и к Троепольским.
Перекинувшись первыми словами, они долго сидели молча, погруженные каждый в свои думы. Состояние Волкова передалось и Татьяне Михайловне. Она несколько раз вставала со своего места, выглядывала в окно, опять садилась. Раза два или три сказала:
— Не слышно и не видно.
Федор молчал. Татьяна Михайловна, как всегда, мучительно переживала ипохондрию Волкова. Наконец решилась спросить:
— Что с вами сегодня, друг мой?
— Если бы я знал! — горько усмехнулся Волков. — В голове туман, тысячи вопросов теснятся, и ни на один нет ответа. Да и вопросы ли это? И нужно ли на них отвечать? Пожалуй, что и не нужно. Все равно на главный из них не ответишь…
— Я понимаю вас. Со мною часто бывает вроде этого. Потом забудешься. Как бы и легче станет. Лучше не думать. Иногда мне представляется, будто мы плывем с одной волной. И колыхаемся и колеблемся по-одинаковому. Куда качнет одного, туда качнет и другого. Плывем все время на аршин расстояния. И расстояние это ненарушимо. Ни сойтись ближе, ни отдалиться друг от друга мы не можем.
— Вот я думаю, думаю, и не могу понять, как все это случилось! — беспомощно развел руками Волков.
— Как бы ни случилось, а случилось. Обстоятельства оказались сильнее нас.
— Всему виною моя врожденная глупость, — глухо сказал Федор.
— И меня не исключай.
— Я был преступно нерешителен.
— Или излишне порядочен.
— А ты… опасливо сторонилась меня…
— Или слишком любила.
— Так что же нам остается делать?
— Пока… плыть в аршине расстояния.
— Кошмар какой-то!
Волков встал и тяжело прошелся по комнате. Затем бессильно опустился на стул в темном углу, закрыв лицо руками.
Татьяна Михайловна подошла к нему, положила руки на голову Федора, пригладила волосы.
— Не надо, милый… Мое сердце навек с тобой. Как и твое со мной. Большего пока не будем добиваться.