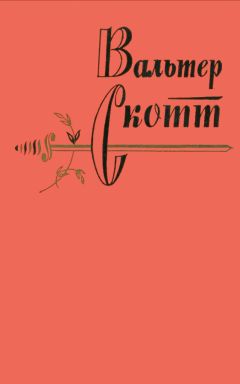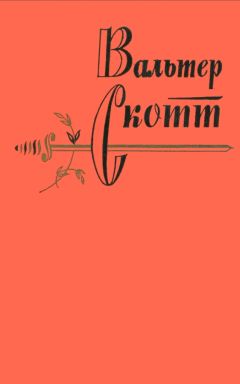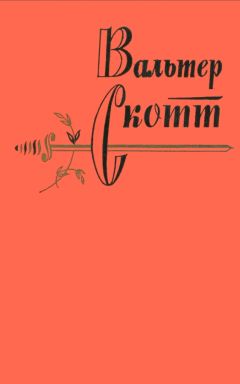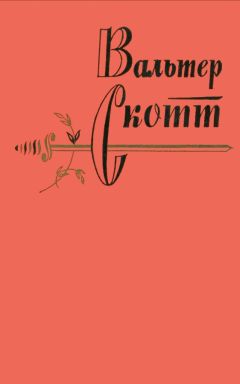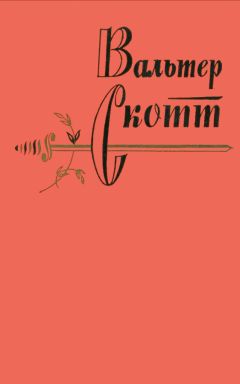Вальтер Скотт - Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 5
— Кто же вы такой, что ваше имя должно вселять подобный трепет? — сказал я.
— Вам я не враг, раз я веду вас в такое место, где сам я, если буду опознан, тотчас получу колодки на ноги и пеньковый галстук на шею.
Я остановился посреди мостовой и отступил на шаг, чтобы как можно лучше разглядеть своего проводника при ночном свете и получить возможность к обороне в случае внезапного нападения.
— Вы сказали, — проговорил я, — или слишком много, или слишком мало: слишком много, чтобы внушить мне доверие к вам, к незнакомцу, который сам признает, что подлежит каре законов той страны, где мы находимся, и слишком мало, если не докажете, что суровый закон преследует вас несправедливо.
Дав мне договорить, он сделал шаг в мою сторону. Я невольно отступил и положил руку на эфес шпаги.
— Как, — сказал он, — на безоружного? На друга?
— Я еще не знаю, друг ли вы мне и впрямь ли безоружны, — возразил я. — И, сказать по совести, ваш разговор и обхождение дают мне право усомниться и в том и в другом.
— Вы говорите как мужчина, — ответил мой проводник, — и я уважаю того, чья рука может защитить голову. Скажу вам прямо и откровенно: я веду вас в тюрьму.
— В тюрьму! — воскликнул я. — По какому праву и за какую провинность? Вы скорей отнимете у меня жизнь, чем свободу. Можете драться со мной, но я не сделаю ни шагу дальше.
— Я веду вас в тюрьму, — сказал он, — не как арестанта. Я не шериф, — добавил он, высокомерно выпрямившись, — и не понятой. Я веду вас на свидание с заключенным, от которого вы услышите, что грозит вам в настоящее время. Вашу свободу этот визит не ставит в опасность, мою — гораздо больше. Но я охотно иду навстречу риску ради вас, потому что риск не смущает меня и мне по душе молодой вольнолюбивый пыл, не знающий другого защитника, кроме обнаженного клинка.
Пока он это говорил, мы достигли главной улицы и остановились перед большим строением из тесаного камня, украшенным, как я, казалось, мог различить, железными решетками в окнах.
— Н-да, — сказал незнакомец, при переходе к тону развязной беседы меняя правильную английскую речь на шотландский говор, — немало дали бы провост и почтенные бэйли города Глазго, чтобы запрятать в свою тюрьму и наградить железными подвязками молодчика, который сейчас стоит перед ее воротами, вольный как серна. Но немного было бы им от этого проку: пусть бы даже они меня туда засадили с тяжелейшей гирей на каждой ноге, они нашли бы наутро пустую камеру. Идемте, однако, чего вы стали?
С этими словами он постучал в низкую дверцу, и хриплый голос, точно человека пробудили от сна или раздумья, отозвался:
— Кто там? Что еще? Какого черта вам понадобилось в ночной час? Это против правил, против всяких правил!
Протяжный тон, которым произнесены были последние слова, показывал, что говоривший снова расположился вздремнуть. Но мой проводник заговорил громким шепотом:
— Дугал, друг! Забыл? Ха нун Грегарах![61]
— Черт меня подери, если я забыл! — быстро и весело прозвучало в ответ, и я услышал, как привратник бойко захлопотал за воротами.
Мой проводник обменялся с ним несколькими словами на совершенно незнакомом мне языке. Были отодвинуты засовы, но осторожно, словно привратник опасался производить шум, и мы вступили в караульную глазговской тюрьмы — небольшую, но с толстыми стенами комнату, откуда поднималась наверх узкая лестница, а две или три низкие двери вели в помещение на одном уровне с воротами, защищенными ревностной силой слуховых окон, засовов и болтов. Стены были, как подобало месту, украшены кандалами и другими страшными приспособлениями, служившими, возможно, еще менее человечным целям, а вперемежку с ними висели алебарды, ружья, пистолеты старинного образца и прочее оружие для защиты и нападения.
Проникнув так неожиданно, так непредвиденно — и тайком — в эту твердыню шотландского правосудия, я вспомнил свое приключение в Нортумберленде и невольно подосадовал на игру случая, которая снова без всякой провинности с моей стороны грозила привести меня в опасное и неприятное столкновение с законами страны, куда я прибыл чужеземным гостем.
ГЛАВА XXII
Взгляни вокруг, Астольфо, юный друг:
Сюда людей (за то, что были бедны)
Богатый посылает голодать -
От злой болезни горькое лекарство.
Здесь, задыхаясь в сырости и вони,
Надежды гаснет светоч. Но к огарку,
Покуда тлеет, — грубый, своевольный
Отчаянья безумного разгул
Поднес зажечь свой смольный адский
факел -
Светить делам, которых бедный узник
Не совершил бы и под страхом смерти,
Пока в нем душу не убили цепи.
«Тюрьма», сцена III, акт 1Едва переступив порог, я обратил пытливый взгляд на своего проводника, но лампа в комнате горела слишком слабо и не позволила как следует разглядеть его черты. Привратник держал в руке фонарь, но свет падал больше на его собственное лицо, не столь для меня занимательное. Он похож был на дикого зверя с косматой рыжей гривой и рыжей бородой, в которых почти совсем терялись черты его лица, поразившие меня только одним — той бурной радостью, что загорелась в них при виде моего проводника. В жизни не встречал я ничего, что отвечало бы так полно моему представлению о невежественном, диком, первобытном человеке, взирающем на кумир своего племени. Он скалил зубы, он дрожал, он смеялся, он был готов расплакаться — если в самом деле не плакал. Его лицо как будто говорило: «Куда пойти мне? Что для вас мне сделать?» Полное подчинение, хлопотливая услужливость и преданность… Неловкая попытка — но боюсь, что иначе я не сумею описать выражение этого лица. А голос… Человек точно захлебывался от восторга и способен был произносить только междометия вроде: «Ох, ох! Ну-ну! Давно она вас не видаль!», или другие возгласы, такие же короткие, на том же неведомом языке, на котором он переговаривался с моим спутником, когда мы стояли за воротами тюрьмы, или на ломаном английском. Мой проводник принимал этот бурный порыв обожания и радости, как государь, с юных лет привыкший к дани поклонения от всех окружающих: она уже не трогает его, но он все же готов отвечать обычными изъявлениями монаршей учтивости. Мой таинственный покровитель любезно протянул привратнику руку и ласково спросил:
— Как поживаешь, Дугал?
— Ох, ох! — проговорил Дугал, несколько понизив голос и озираясь вокруг настороженно и тревожно. — Ох! Видеть вас тут… тут! Ох, что станется с вами, если проведает начальство, толстобрюхие мерзавцы бэйли!
Мой проводник приложил палец к губам и сказал:
— Не бойся, Дугал, твои руки никогда не запрут меня в камеру.
— Не запрут, никогда не запрут! Они бы… она… я скорей потерпел бы, чтобы их отрубили по локоть. Но когда вы опять отправитесь туда? Вы не забудете меня предупредить… ведь я ваш бедный родственник, видит Бог, всего в седьмом колене.
— Я дам тебе знать, Дугал, как только начну осуществлять свои планы.
— Душой своей клянусь, как только вы дадите мне знать, будь то в воскресный вечер, я швырну ключи в голову начальнику тюрьмы или выкину иную штуку, а утром в понедельник только меня и видели!
Мой таинственный незнакомец прервал восторженные уверения Дугала, опять обратившись к нему на том неведомом языке (на гэльском, как узнал я позже), вероятно разъясняя, какая ему требовалась сейчас услуга. Ответ: «Всем сердцем, всей душой», — и еще много слов, сказанных невнятно, но в том же тоне, выразили готовность привратника исполнить то, что ему было предложено. Он поправил фитиль в своей чуть не погасшей лампе и подал мне знак следовать за собой.
— Вы не пойдете с нами? — спросил я, глядя на своего проводника.
— В этом нет нужды, — ответил тот, — мое присутствие может вас стеснить. Лучше я останусь здесь и обеспечу вам отступление.
— Верю, что вы меня не оставите в опасности, — сказал я.
— Всякую опасность я здесь разделяю с вами, а для меня она вдвойне грозна, — сказал спокойно незнакомец, и было невозможно ответить ему недоверием.
Я последовал за тюремщиком, который, не заперев за собой внутренней двери, повел меня по винтовой лестнице, потом по длинной узкой галерее; затем, открыв одну из нескольких дверей, выходивших в коридор, он втолкнул меня в небольшую комнатку, поставил лампу на некрашеный стол и, указав глазами на плохонькую койку в углу, проговорил вполголоса:
— Она спит.
Она? Кто «она»? Неужели в этой обители горя — Диана Вернон?
Я взглянул на койку и скорее разочаровался, чем обрадовался, когда понял, что первое подозрение меня обмануло. Я увидел красный колпак и под ним лицо, немолодое и некрасивое, обрамленное седой двухдневной щетиной. С первого взгляда я сразу успокоился за судьбу Дианы Вернон; со второго — когда спящий очнулся от тяжелого сна, зевнул и протер глаза, — я разглядел черты действительно совсем иные, а именно — черты моего бедного друга Оуэна. Я на минуту выступил из освещенного круга, чтобы дать время старику прийти в себя, вспомнив, по счастью, что в эту келью скорби я вторгся незваный и что всякий переполох может повлечь за собой пагубные последствия.