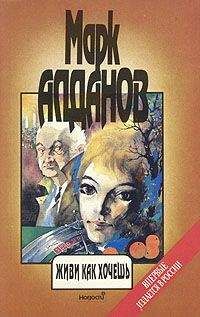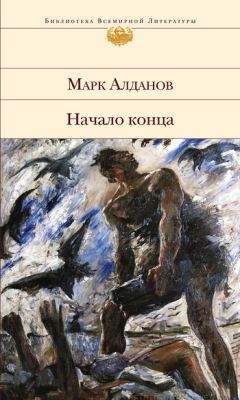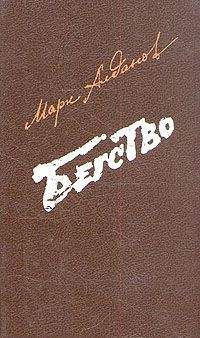Назир Зафаров - Новруз
— Не мне, им скажите, — продолжал насмехаться над суфи Саиднасим. — Может быть, они не знают, что ишан потомок святых, остановятся. Или повернут арбу назад, во двор Бабахана.
Впереди арбы шел дядя Джайнак. Шел, высоко подняв голову и твердо ставя ноги. Твердо, а ведь одна нога у него была больна. Давно больна, еще с юных лет. Он не чувствовал немощи, забыл, что калека. Когда добываешь хлеб для голодных, становишься сильным.
За первой арбой из ворот ишана выкатилась вторая.
Я сказал, что впереди арбы шел Джайнак. Верно, шел. Но на несколько шагов его опережал Бурича — низенький, кругленький старичок. Он бежал, нет, катился и кричал:
— Закрома ишана отыскали!
— Отыскали закрома!
— Есть пшеница и ячмень!
— Хлеб есть!
Я вспомнил холостяцкие вечеринки гап-гаштаки и веселого Буричу. Когда Барака Назар напевал свою забавную песенку «Блоха моя драгоценная», Бурича, кривляясь, изображал блоху и все надрывались от смеха. Он был, как и сейчас, маленький, кругленький, вот только без бороды. Говорят ведь, маленькому коню бог пышную гриву дает. Так и с Буричой получилось. Подарила ему судьба бороду. И какую! До пояса. Вся краса его в этой бороде. Ничего больше нет примечательного. Вот, правда, еще глаза. Маленькие, острые, живые. Они сверкают на волосатом лице Буричи, как две росинки на мшистой земле. Удивительные глаза: они смеются. Смеются в самую неподходящую для этого минуту, как вот сейчас, например, когда голодные джизакцы отбирают хлеб у ишана, и все возбуждены и встревожены. А Бурича смеется, то есть глаза его смеются. Да, веселый старичок. Хотя какой Бурича старичок? Он ровесник моего старшего брата. Лишь из-за бороды и морщинистого лица прозвали его бобо — дедушка. А поседел он во время восстания. Многие поседели в те дни. От горя или от страха.
Белая длинная борода Буричи металась во все стороны, когда он бежал впереди дяди Джайнака и кричал:
— Хлеб ишана!
— Пшеница и ячмень из его закромов!
— Сто канаров зерна!
Арбы скрипели звонко под тяжестью пшеницы, словно подтверждали правоту слов Буричи.
— Вот, вот, — покачал осуждающе головой Шакир-суфи. — Не ваш хлеб, а ишана. И тот, кто подстрекает людей к грабежу слуг пророка, тот дьявол. Конец сво та наступает. О правоверные, остановитесь!
Саиднасим в сердцах плюнул.
— Не конец света, а конец ишана. И поделом ему, пусть лопнет его толстое брюхо!
— О, и вы хотите быть прокаженным?! — взвизгнул Шакир-суфи.
— Я хочу быть сытым, — ответил Саиднасим и решительно зашагал к арбам.
Только какую-то минуту Шакир-суфи пребывал в одиночестве. В следующую минуту его окружили ротозеи, которым даже голодный желудок не мешает быть любопытными. Впрочем, никто не знал, пуст или полон их желудок. Ту самую половину лепешки, что имел суфи, надо полагать, имели и они. А те, кто ест из одного котла, хорошо понимают друг друга. Ротозеи поняли Шакира-суфи.
— Ваша правда, уважаемый. Раздавая руками — и птицу не накормишь, — сказал один.
— Лишь неверный способен причинить боль духовному пастырю, — добавил второй.
— Гнев аллаха падет на голову безбожника Джайнака, — заключил третий.
Так сказали любопытные, и слова их пришлись но душе Шакиру-суфи.
Но что слова! Ими не заслонишь ишана от беды. И Шакир-суфи стал призывать джизакцев к действию. Он крикнул:
— Преградите путь безбожникам!
— Верните зерно Бабахану!
— Поверните арбы!
Выкрикнул все это своим скрипучим голосом суфи, но арбы не повернулись. Никто не преградил путь безбожникам. Никто не собирался возвращать зерно Бабахану. Туго набитое в большие мешки, оно уплывало от ворот ишана. Арбы, окруженные толпой голодных, упрямо двигались в сторону Каландарханы.
Мы с Адылом пошли следом.
Попасть в Каландархану было не так-то просто. Люди сгрудились у входа, образовав заслон, который нельзя было никак пробить. Вот только когда появились арбы, груженные зерном, народ расступился.
— Хлеб! Хлеб! — закричали и заплакали женщины.
Вместе с арбами в Каландархаиу вошли и мы. Адыл совсем потерял силы, и я втянул его в ворота за руку.
— Оставь меня! — просил бедняжка Адыл. — Дай отдохнуть…
— У казанов отдохнешь, — отвечал я.
У казанов, правда, отдых не предусматривался. Они были окружены плотной стеной человеческих тел, и я лишь догадался, что за стеной этой варится атала. Где еще могли находиться котлы?
Мы отыскали свободное дерево — все деревья и стены Каландарханы были облеплены людьми, искавшими опоры, — и прислонились к нему. Тонкие ноги Адыла, однако, не держали его, и он опустился на землю.
— Э-э, — запротестовал я. — Земля-то холодная!
— Пусть, — обреченно ответил Адыл. Глаза его закрылись, и он впал в какую-то бессильную дремоту.
С появлением продовольственной комиссии, доставившей зерно, Каландархана ожила. Люди задвигались, зашумели. Поднялся стук и звон. Чашки, миски, ведра, все, что прихватили с собой джизакцы, заговорило на своем глиняном и железном языке. Все требовало аталы.
Вы знаете, что такое атала? Лучше бы вам не знать той аталы. Я вспоминаю клейкую жижу, приготовленную из воды и поджаренной муки, с содроганием. Конечно, если аталу делать по правилам, на молоке или масле, с подрумяненным луком, то можно и пальчики проглотить. Но о каких правилах говорить, когда ни молока, ни масла, ни самой муки нет, а та мука, что добыта с великим трудом, делится на части, пока эти части не становятся едва видимыми, и когда из таких частей попадает в казан. Эта атала голодного года.
Вспоминать о ней можно, конечно, с содроганием, но грех быть неблагодарным атале. Она спасла народ от голодной смерти. Низкий поклон поэтому глубокому ковшику, который разливал густое ли, жидкое ли по пиалам и мискам джизакцев.
Тогда, сидя на земле под шелковицей, Адыл сказал:
— Если бы разрешили люди, я один выпил бы целый казан.
Сказал он это, отдохнув и придя в себя после трудной дороги от дома до Каландарханы. Хотя какая это трудная дорога? Прежде мы пробегали улицу, не передохнув. Пока перепел прокричит свое пит-пиль-дык, мы пролетаем от своих калиток до мечети Ниджонлик. Вот как было. Сейчас дорога отняла у нас все силы, а друга моего повалила наземь. И он не очнулся бы так быстро, не разлейся по Каландархане аромат кипящей аталы. Аромат поднялся над казанами и потек по саду, и был таким аппетитным, что пробудил дремавшего Адыла. Я думаю, он мог пробудить даже мертвого, если тот успел попасть на небеса и дух аталы достиг голубого царства. А как же иначе, ведь пар из котлов всегда поднимается в небо. Это я сам видел.
— Лопнет же твой живот, — сказал я, хотя в душе позавидовал фантазии Адыла. Действительно, неплохо было бы припасть губами к казану и пить, пить аталу.
— Пусть лопнет, зато наемся досыта. Иди скажи, Адыл берется одолеть казан.
Он не шутил, мой бедный Адыл. Глаза его горели таким голодным огнем, такой решимостью, что он, пожалуй, нырнул бы в котел с аталой, чтобы насытиться наконец.
— Ладно, — сказал я, несколько смущенный. — Каждый захочет выпить казан. Казанов всего два, а людей — тысяча.
Это убедило моего друга, а может, и не убедило. Просто, он понял, что никто не даст ему казан аталы, так как голодные люди мечтают всего лишь о черпаке жидкого или густого. Однако он по-прежнему смотрел голодными глазами на котел и глотал слюну. И губы его дрожали.
Я решил отвлечь Адыла. Показал пальцем на супу и спросил:
— Кто этот человек с красной повязкой на рукаве?
Уловка моя удалась. Адыл оставил в покое казаны и повернулся к возвышению в конце двора.
— Дядя Джайнак. Разве не помнишь?
— Какой Джайнак? — сделал я вид, будто первый раз слышу это имя.
— Забыл! Мы зимой, еще до изгнания в степь, ходили к нему за семенами дыни.
— А?! Он дал тебе «бурикалла» — «волчью голову»… Помню, помню. Жена его все сердилась, что не верит дядя Джайнак в ангелов, а потом угощала нас жареной кукурузой. Убили ее солдаты…
— Да нет же… — поднял испуганно руку Адыл, словно я пытался упомянуть о чем-то запретном, вызывающем боль. Он вспомнил маму свою.
Назад, однако, сказанного не вернешь. Мне пришлось лишь пожалеть о некстати выскользнувшем слове и примолкнуть.
Тут на супу поднялся дядя Джайнак.
— Братья! Сестры! — крикнул он. Только криком можно было перекрыть гул, стоявший в Каландархане.
Не сразу стихли голоса людей, не все поняли, чего от них хотят, не все увидели на супе человека с красной повязкой.
— Братья! Сестры! — повторил дядя Джайнак, когда установилась наконец тишина. — Каждому дан язык, но надо ли заставлять его трудиться без устали? Пусть отдохнет, а уши поработают… Слушайте, дорогие! В этих котлах атала. Ваша атала. Но чтобы каждый мог утолить голод и получить то, что ему предназначено, пусть наберется терпения. Разом все рты не наполнишь. По очереди. Соблюдая порядок, мы быстро управимся с трудным делом. Станьте же один за другим, и пусть тот, кто окажется дальше от котла, не тревожится, не мучает свое сердце страхом. Записанный в тетрадь Мирбайзи Миразим-оглы — хозяин этих котлов. У него ключ от сундука с хлебом. Но, нарушая порядок, бегая от котла к котлу, он может потерять свой ключ, а значит, и черпак жидкого или густого. А потерянный ключ, как вы знаете, братья, найти нелегко. Так будьте благоразумны. Берегите ключ от аталы. Она приготовлена из зерен, собранных на бедной, бесплодной, разоренной земле Джизака. Вы поняли меня, братья?