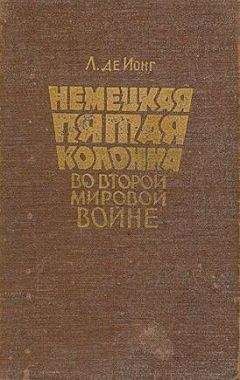Алексей Толпыго - Загадки истории. Злодеи и жертвы Французской революции
А может быть, им двигало чувство справедливости или просто жалость? Вот последняя версия как раз наименее правдоподобна. И не потому, что Робеспьер был таким уж чудовищем, а потому, что в 1794 году все, и он в том числе, считали, что жалость – это чувство, недостойное истинного республиканца: он должен был суров и безжалостен к врагам Революции.
А вот чувство справедливости – дело другое. Если Робеспьер не считал их врагами народа, он мог спасать их из чувства справедливости.
Как на самом деле это было, мы не знаем. Достоверно только то, что Робеспьер несколько раз откладывал рассмотрение вопроса о жирондистах, тянул, волынил… и в конце концов дотянул до термидора.
И вот, в новой ситуации, жирондисты, которые недавно мечтали только о том, чтобы о них забыли, теперь сами прислали письмо с жалобой и требованием, чтобы их наконец судили.
8 вандемьера III года (29 сентября 1794), после бурных дебатов Конвент постановил, что «можно быть иного мнения об этом великом дне [31 мая], чем большинство народа, и это не составляет преступления». Компромисс: 31 мая все еще признается великим Днем, но освобожденные жирондисты восстанавливаются в правах и возвращаются в Конвент.
Репрессии против жирондистов сменяются репрессиями против якобинцев.
Но хотя жирондисты смогли вернуться в Конвент, это был уже совсем другой Конвент, и партия жирондистов перестала существовать в 1793 году. Люди – многие – остались живы, а партия умерла бесповоротно.
Завершая историю жирондистов, хочется еще раз вернуться к словам Верньо о «революции, пожирающей своих детей». Если это так (а во Франции это, действительно, было так), то отчего?
Очевидно, оттого, что французская революция совершила не один, а несколько кругов – может быть, лучше сказать, несколько вихрей.
Первым таким революционным вихрем была революция аристократии в 1786–1788 годах. Эта революция не удалась, «привилегированные» проиграли дважды. Они не смогли добиться своих целей, но они до предела расшатали страну и тем расчистили поле действий для новых, более радикальных революционеров.
Второй вихрь – революция 1789 года, радикально устранившая аристократию, но относительно бескровная. Если сравнивать с сентябрьскими убийствами или с годами Террора, то число жертв взятия Бастилии или других подобных эксцессов незначительно. Более того, хотя аристократия пала жертвой событий этого года, но жертва опять-таки была почти бескровная. Истинные враги революции в основном тогда же эмигрировали и остались живы. Более того, поначалу казалось, что тем дело и кончится: революция совершена, конституция принята – чего же еще?
Но следует третий вихрь – революция 1792 года, перечеркнувшая не только конституцию прошлого года, но и все дело конституционалистов. Еще раз напомним слова одного из современников Террора: «Во время Террора пощады не было четырем категориям людей: бывшим дворянам, священникам, эмигрантам и конституционалистам». Может быть, это преувеличено, но факт: ряд виднейших деятелей Учредительного собрания, такие как Барнав или Байи, погибли на эшафоте. Между тем тот же Барнав тоже мог бы эмигрировать, но он, в отличие от аристократов, не счел это для себя допустимым, он участвовал в революции, он нес за нее ответственность – он не был вправе бросить Францию.
Впрочем, многие все же предпочли эмигрировать. Наибольшую жатву гильотина собрала среди лидеров революции – жирондистов. Они погибли на четвертом витке, проиграв своим конкурентам – монтаньярам. История жирондистов стала самой масштабной чисткой Конвента за все три года его существования.
Пятый революционный вихрь весной 1794 года унес сначала эбертистов, а затем дантонистов. После этого наступил день 9 термидора, падение Робеспьера – и маятник революции начал движение в обратную сторону. Но это уже другая история.
В заключение – о судьбах нескольких из тех, кто прятался, но выжил.
Когда группа жирондистов – Петион, Луве, Бюзо, Гюаде, Салль, Барбару – бежала в Аквитанию, все они погибли, кроме Луве. Его спасла – странно об этом говорить в дни террора, но это исторический факт – его спасла любовь.
Жан Луве де Кувре прославился еще до революции как автор романа («бестселлера», сказали бы мы сегодня) о кавалере Фоблазе. «Лодоиска», возлюбленная кавалера Фоблаза – реальное лицо. Ее звали Маргерит Деннель, она была женой ювелира и любовницей Луве. В годы революции Луве добился для нее развода и женился на ней.
В Конвенте он, наряду с Гюаде, был одним из самых непримиримых жирондистов. Именно с ним связан знаменитый эпизод обвинения Робеспьера. (О нем мы упоминали в главе о Робеспьере.)
После 31 мая Луве бежал с другими жирондистами, но мятеж против Парижа не удался. Кольцо вокруг бежавших сжималось. Увидев, что положение безнадежно, Луве решил во что бы то ни стало в последний раз увидеть жену. Прячась в повозках под сеном, он добрался до Парижа, встретился с женой, а потом ушел, чтобы не погубить ее, ушел, как он думал, навсегда.
Но ему повезло на пути в Париж, повезло и на дальнейшем пути на восток. Несколько месяцев он скрывался в горах Юры, близ границы. «Почему же он не ушел за границу?» – спросят читатели. Ответ прозвучит странно для нашего современника, но вполне естественно для француза конца XVIII века: честь дороже жизни.
Так жандарм, охранявший еще одного из жирондистов – Жансонне, – умолял его бежать. Жандарм был обязан ему жизнью: Жансонне спас его во время сентябрьских убийств. Но тот отказался: «Я хочу, чтобы память обо мне осталась безупречной».
Луве жил в нескольких сотнях метров от относительно безопасной Швейцарии, но он не переходил границу: тогда бы он стал эмигрантом, сообщником врагов Франции. Этого он не хотел.
Луве удалось спасти не только честь, но и жизнь. Сначала его не нашли, потом перестали искать, и в итоге он был возвращен в Конвент. После роспуска Конвента он был избран в новое Собрание (в Совет пятисот), но прожил недолго: умер в возрасте 37 лет. Маргерит отравилась от горя, но ее спасли и убедили жить дальше «ради детей».
Удалось спастись и некоторым другим. Полиция все-таки работать не умела, Гюаде поймали только через полгода, еще бы полтора месяца – и он был бы спасен. А вот, например, Инар и Ланжюине сумели успешно прятаться вплоть до термидора и спаслись.
Максимен Инар, пламенный провансалец, родился в 1755 году в Грасе, на юге Франции, на средиземноморском побережье. (Сейчас этот город знают в основном по роману Зюскинда «Парфюмер»). В первые годы революции зарекомендовал себя как пылкий оратор, ярый патриот и атеист, был едва ли не самым ярым врагом монтаньяров в Конвенте. И именно он в мае 1793 года так эффектно бросил свое «проклятье Парижу». Последующая его карьера не делает ему особой чести; он не только слишком увлекался, но и часто менял свою позицию. После 2 июня он не был включен в список подлежащих аресту, но скрылся, избегая ареста, но это ему нельзя поставить в вину. Вряд ли следует очень строго отнестись к тому, что он, в отличие от стойких жирондистов, осенью дважды писал письма с оправданиями, объясняя свое поведение южной горячностью. Но уже не так легко извинить то, что, когда он через год был возвращен в Конвент, то он опять ставил себе в заслугу те слова, от которых отрекался, и яростно преследовал тех монтаньяров, у которых просил прощения в прошлом году.
Позже он еще несколько раз менял взгляды в соответствии с веяниями времени. Была ли это беспринципность? Скорее готовность поддаться (и отдаться) той идее, которая стала на короткое время господствующей. В конце концов он стал настолько рьяным монархистом, что после Реставрации ему было разрешено остаться во Франции (хотя по закону он, как голосовавший в 1793 году за казнь короля, должен был быть изгнан). «Он умер, – говорит о нем историк, – забытый и заброшенный, в 1825 году, не сохранив на старости лет ни одной мысли, ни одного чувства, которые руководили им в период Законодательного собрания».
Ланжюине – один из «революционеров первого призыва»: он редактировал наказы третьего сословия Бретани в 1789 году, был депутатом Генеральных Штатов, но ни там, ни позже не играл особой роли, его нельзя сравнивать по влиянию с Бриссо или Гюаде. Но трижды он все-таки выходил на авансцену французской политики.
Первый раз – в том же 1789 году. Тогда именно он пресек карьеру Мирабо, потребовав, чтобы Национальное собрание декретировало: никто из его членов не может быть министром.
О втором случае – о звездном часе Ланжюине, о его словах «Добейся декрета, который бы объявил меня быком!» говорилось выше. А третий?
Третий случай был через четверть века, в 1815 году – во время «Ста дней». Тогда новый парламент, спешно избранный при Наполеоне взамен бурбоновского, выбирал своего председателя. Конкурировали двое: Люсьен Бонапарт, брат Наполеона, который постоянно фрондировал в годы Империи, но теперь намеревался помочь брату в попытке построить новую, либеральную империю – и Ланжюине. Палата большинством голосов предпочла Ланжюине, тем показав Наполеону: он уже не тот, парламент не будет подчиняться ему так, как это было в предыдущие 14 лет.