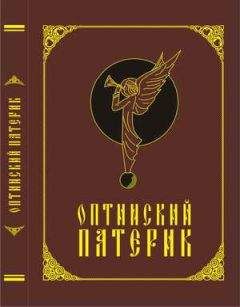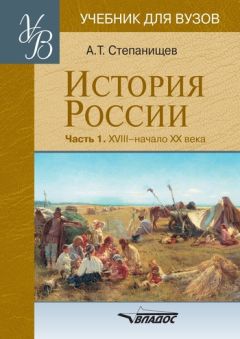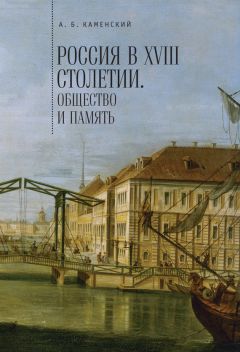Вениамин Колыхалов - Тот самый яр...
Влекли уплывшие трупы… берег расчёта не представлял опасности, не грозил вечным укором.
За секунду до рокового шага штрафбатовец ухватился за воротник плаща, но резко не дёрнул. Он развернул фронтовика лицом к жизни, схватил в объятия и дружески отвёл от песчаной вертикали.
Губошлёпу желалось другого исхода. Привыкший не доверять своей судьбе, он и на чужие смотрел с опаской и недоверием. В начальную фазу момента Глухарю не терпелось схватить чикиста за руку, подвести к смертной крути. Созрела мысль столкнуть в Обь нерешительного фаталиста. Где ему набраться сухого пороха, чтобы решительно шагнуть в бессмертную стихию воды?
— Наган Наганыч, пойдём, повторим подвиг, — встретил ехидством невменяемого гвардейца наследственный алкаш.
— В тебе жизнь борется со злыдней-смертью: дай ей потачку, уважь…
— Замолчи! — оборвал Сергей Иванович бестактного говоруна.
Слушаюсь! Замолкаю.
— Иди, вызови «Скорую».
— Есть!
— Мы потихоньку пойдём к больнице… ты — мигом!
Сунув в карман энцефалитки початую бутылку водки, ломтики колбасы и сыра, Глухарь враскачку полетел в городок.
Отрешенный взор, дрожащее обмякшее тело пугало сослуживца комендатуры и Ярзоны.
Горелов поддерживал:
— Крепись, Натан, крепись! Фронт вспомни, окопы…
— Ко-ман-дир… за-да-ние выпол-нил…
— Молодец!
— Ты кто?
— Штрафбатовец Горелов.
— Ообь зоовёёт…
— Забудь… нас жизнь зовёт…
Всё тяжелее становилось быть подпоркой малоподвижному телу. Присели на пятачке прогретого песка. Отсюда не виделся даже краешек могучего плёса, зато небеса раздвинули границы, притягивали к себе: синий магнетизм ощутил даже больной:
— Таамхоороошоо… — в поблёкших глазах Воробьёва оттиснулся свет зовущих высот.
— Там, Натанушка, лучше, чем на земле, — заговаривал сердечника историк, — там непогрешимая свобода… воля вольная…
В вялом разговоре больной прикусил язык, струйка крови с пеной скапливалась в устье губ.
Промокнув носовым платком розовое скопление, Сергей Иванович слегка потормошил товарища. Потрогав руки, ощутил проникший в них коварный холодок.
— Снайпер, держииись!
Массажировал островок тела над сердцем по часовой стрелке, чтобы продлить часы и дни жизни: они тоже текут в одном направлении. Погладывал на дорогу — скоро ли покажется «неотложка».
О попытке добровольного полёта к Оби и горизонту учёный не стал рассказывать врачам. Психическое расстройство переживал и сам. Историку представлялось: нет на Советской земле человека из низов, который бы сберёг своё сердце от продуманного насилия властей, от общегосударственного психоза. Адская машина управления массами, давления на умы работала от политической смазки, строгого контроля над паствой.
Разуверился в истории. Разуверился в тягомотине времени. Паразитический класс управленческой элиты решил обессмертить себя и семейные кланы.
Часто историк обтачивал в мыслях вывод веков: «В России было две напасти: сперва власть тьмы, теперь тьма власти…» И народ пребывает во тьме, и знать расплодилась тьмою ночной. Какую может иметь власть безгласная тьма? Разве устоит она против сплочённых сил тьмы власти?
И новое историческое полотно оказалось прелым. Партия помыкает людишками… даже трупам нет защиты, покоя в земле. Отказ от перезахоронения невинно убиенных не прибавит уважения и славы правящей верхушке, её многочисленной прожорливой свите.
Нынешнее состояние нации можно назвать затяжной апатией. От безразличия к серой жизни и лозунговой напасти у народа оставался старый проверенный способ сошествия с ума — питие. Учёный, путешествуя по городам и весям многострадальной Родины, видел: народ спивается. До коммунизма, вроде, рукой подать, отсветы рая долетают из будущего, а глупый народишко хочет обезуметь, забыться, уйти в новую тьму существования.
Давно уяснил Горелов: на историю брюзжать не надо. Хотелось бы видеть её не зигзагообразной, не кровавой, не хищной. Такой не будет. За власть бьются не ради процветания народов — ради сохранения правящего класса, мечтающего о баснословной наживе. Чернь на полях, у станков, в шахтах, на стройках. Знать сколачивает капиталы…
Азбучные истины лезли в голову в гостиничном номере. Вековое бессилие и бесправие народа представилось его расплатой за безразличие к собственной воле и свободе. Людишек несло в мутном потоке истории брошенным щепьём. Они тащили необременительное ярмо дураков. У власти ума оказалось на полушку больше, это дало право быть вечными погонялами.
Чувство ревности Сергей Иванович научился отгонять порывами сильной воли. Загостилась где-то мадам Лавинская — пусть. После проверок, ревизий застолье — обычное дело. Но сегодня провидение бесновалось, выставляя картинки напоказ: Полина с кем-то в постели… проявляет свой безудержный бабий пыл… самец намного моложе дорожного любовника… усердствует на пышке…
«Расстанусь с ней в Томске без сожаления…».
Стал припоминать изречение какого-то зарубежного писателя о таких вот любвеобильных особах: «Добродетель, которую надо стеречь, не стоит того, чтобы её стеречь…»
«Действительно, не стоит. Кто она мне? Полужена? Полулюбовница? Держит на привязи, и верёвочка не рвётся… Где-то терзается муж… разводись скорее с пугалом…».
Вчера полячка-гордячка потешила слух бравой частушкой:
Эй, подружка, не зевай,
Кто попросит — всем давай,
Не фарфоровая чашечка —
Не выломится край.
«Мера её испорченности даже мне не известна. Вроде не чужая душа, а потёмки непроглядные…».
Она ввалилась в номер пьяной.
— Ссерж, вот и я… прости… потасканная…
— Вижу.
— Козёл! Видит он!..
— Молчи и… присядь…
— Мне прилечь надо… с тобой…
— Полина Юрьевна, я провожу в ваш номер.
— Мои номера везде… даже… хочешь, срифмую?
Большого труда стоило историку угомонить бунтаря в юбке. Пришлось включить радио почти на полную катушку, чтобы заглушить местное би-би-си.
Такой развязной, изрядно выпившей любовницу раньше слышать и видеть не приходилось. Боялся одного: не появилась бы дежурная, не увидела Лавинскую в состоянии постельного режима. В свой номер идти отказалась наотрез… Проводил часа через три, пока не выклянчила беглой, безвкусной встречи…
Медики Колпашинской больницы настаивали на долгом лечении фронтовика Воробьёва, но он через три дня сбежал в больничном халате. Глухарь сходил к главврачу, принёс халат, письменный отказ от лечения, забрал одежду боевого снайпера.
На Губошлёпа находили волны озлобления. Его почти на каждом шагу попрекали знакомством с бывшими энкавэдошниками.
— Фронтовики они, — отбояривался Васька, — вас, дураков, спасли от чумы фашистской.
Он бесцеремонно брал из бумажника Натана Натаныча по пятёрочке да по десяточке, радуясь тому, что у пенсионера их почти что не убывает.
Когда квартирант ввалился под вечер в больничном халате, стоптанных тапочках — удивилась не одна хозяйка. Напуганный кот Дымок, выгнув спину, попятился к порогу.
— Туда ли я попал?.. Изба, вроде, знакомая… Варвара тут…
Напряжённо всматривалась Октябрина в измождённую фигуру, в землистое лицо. Раскрытый рот, испуганные глаза, дураковатый вид привели хозяйку в недоумение и налётный испуг.
— Натаныч?!
— Наганыч… Не ошиблась, Варвара…
«Неужели так люди сходят с ума?»
Октябрина проводила больного к постели, с трудом убедила прилечь.
— Отдохни, дорогой, дома… больница хоть кого сомнёт.
«Навязала на мою головушку постояльца… о Варваре бредит… пусть приезжает, забирает героя… умрёт — с похоронами возись…».
Участковый кот обходил кровать стороной. Его лечебная миссия закончилась. Дальше пациента брали на поруки иные силы. Дымок чуял веяние наступающей погибели.
За глубокими провалами памяти наступали минуты и часы прозрения. Рождался совсем другой человек с осмысленным взглядом, связной речью. Ветеран стоял на пограничной черте между миром реальным и давящим — потусторонним. Его кто-то перетягивал туда-сюда через линию неравной борьбы.
Красный Октябрь с улицы Железного Феликса тоже подвергалась обстрелу земляков:
— Хорош у тебя квартирант… палач — одним словом…
— Вовремя появился — своими жертвами полюбовался…
— Расстрельщик!
— Гони его в шею!..
Заступалась опешившая Октябрина:
— Его война простила… изранен весь… Сам маршал Жуков снайпером восхищался…
Нюра — вдова расстрелянного Каллистрата, отважилась плюнуть в Красного Октября:
— Приду с кочергой — пристукну твово гада…
Взвешивала пожилуха Октябрина все «за» и «против» — выходило по-народному: напрасно она до сих пор не отказала в жилье сомнительной личности… Но как прогонишь — увечный войной и памятью человек…