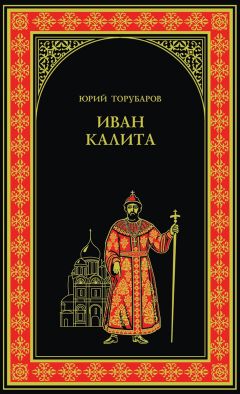Максим Ююкин - Иван Калита
— Братия! — тяжелой, густо оперенной стрелой облетел толпу голос посадника. — Опомнитесь! Нам ли затевать прю меж собою? Все мы дети одной матери — нашей святой Софии, и да проклянет господь того, кто дерзнет сеять промеж нас смуту! Како устоим противу внешних ворогов, аче не будет в доме нашем согласия?
— А почто Москву господовать допускаете? — перебил его задорный молодой голос. — Нам не с руки в ярмо лезть — наши выи к нему вельми непривычные!
В ответ на этот выкрик по толпе пронесся одобрительный ропот, перемежаемый смехом:
— Молодец, Сахно! Вот так выдал посаднику! В самую точку угодил!
— Да отсохнет язык у того, кто возвел сей гнусный поклеп! — гневно загремел посадник. — Что богом от века установлено, то людям не изменить: не бывать тому, чтобы Новгород свободою своею поступился! А с остатнею Русью нам мир иметь надобно — сие и для торга потребно, и по христианскому закону полагается.
Уверенная и убедительная речь посадника возымела действие — озлобление спало, и обе толпы потихоньку стали расходиться. Мост заполнился народом: люди, которые только что были готовы сойтись друг с другом в братоубийственной схватке, обменивались шутками, натянутость которых выдавала недавнее напряжение, многие обнимались — все были рады тому, что обошлось без крови.
6
Отряд в полтысячи всадников, предводительствуемый боярином Иваном Зерно, стремительно продвигался вдоль горбатившегося излучинами русла реки, уводившего его все дальше на запад, в глубь некогда русской, а теперь чужой и даже враждебной литовской земли. Временами Иван бросал нарочито небрежный взгляд через плечо, и тогда на его лице появлялась довольная и вместе с тем жесткая, злорадная улыбка. За спиной у воеводы, словно возбужденно дрожащий петушиный гребень, топорщилось высокое многоязыкое пламя; толстые, сплетающиеся друг с другом кнуты черного дыма без устали хлестали одетое в серое рубище тугое тело неба. Дорогой ценой платила Литва за опрометчивое безрассудство шайки своих неразумных сынов, недавно разоривших несколько пограничных русских волостей поблизости от Нового Торга: в отмщение за сие злодеяние великий князь повелел предать огню почти два десятка городков на литовском рубеже. Разбитое на несколько отрядов русское войско нигде не встречало отпора: литовские гарнизоны без боя оставляли обреченные на гибель городки прежде, чем московская рать успевала подойти к ним на расстояние половины дневного перехода. Оскорбительная легкость побед вызывала у русских воев досаду и презрение к уклонявшемуся от схватки врагу, на каждом привале можно было слышать примерно такие разговоры-.
— Черт их разберет, литвинов этих, — к чужой земле тянутся, а свою боронить не желают.
— Да какую свою! Наша это земля, испокон веку наша была! Ты на названья погляди — Рясна, Осечен — все до одного по-русски звучат. Как Батый Русь обескровил, тут они себе земли эти и загребли, а то все наше было.
— Так какого ж мы рожна русскую землю зорим?! Шли бы прямиком на Вильну, на Троки.
— Да, попробуй дойди до этой Вильны... Не та еще у Руси силушка, больно любим друг с дружкою ею меряться.
— Хоть бы одного ратного человека нам встренуть: ужо ответил бы за ихний разбой!
Но в этом походе пришлось обойтись без сражений: война с Русью Гедиминасу была не нужна. Вместо этого в Москву из Вильны прибыло посольство, которое договорилось скрепить мир между странами родственными узами: было решено женить княжича Семена на дочери Гедиминаса Айгусте.
7
Сошел покрытый черноватой коркой, будто обожженный, апрельский снег, и на деревьях кое-где уже замохнатились мудреные узелки распустившихся почек В лесах и садах прошлогодние листья, как стая серых мышей, беспокойно шевелились под ветром в низкой еще поросли молодой травы. В один из этих благословенных дней вдоль извилин московских улиц мчался запряженный четырьмя парами отборных гнедых лошадей деревянный возок, за которым неотступно следовал большой — в несколько сотен — отряд вооруженных всадников в непривычных глазу москвича островерхих лисьих шапках. Их чужое, нерусское облачение привлекало к ним внимание: люди останавливались на улицах, высовывались из окон и с любопытством глазели на чужеземцев. Но, несмотря на все усилия, никому из них так и не удалось разглядеть тех, кто находился внутри возка — они были надежно скрыты от посторонних очей легкомысленно колышущейся на маленьком окошке голубой шелковой занавеской. Правда, иногда занавеска немного отодвигалась, и в образовавшемся просвете что-то белело, но различить черты лица все равно было невозможно.
По бугоркам посадских избушек, словно корабль по волнам, неумолимо плыла навстречу зубчатая громада Кремля, и вскоре процессия оказалась на шумном, многолюдном берегу Неглинной. Там шла обычная жизнь: напряженно выгнув спины, выставив черные шершавые ступни, стирали на мостках белье коленопреклоненные женщины, мужчины поили коней, беспрестанно причаливали и отплывали лодки. Прогрохотав по мосту, поезд влетел в раскрытые ворота, пронесся по улице, более чистой и застроенной более добротными домами, чем те, которые проезжающие до сих пор видели на своем пути, и, развернувшись на площади, остановился точно напротив крыльца княжьих хором, где гостей уже ждали князь Иван Данилович, его старший сын Семен и бояре. По обеим сторонам от крыльца в несколько рядов стояли неподвижные, как колья в палисаде, пешие и конные воины — самые высокие и пригожие молодцы, особо отбиравшиеся по всему войску. Всадник в богатом, отделанном мехом плаще, все время державшийся рядом с возком, спешился и открыл дверцу, изогнувшись в глубоком поклоне. Опираясь на протянутую им руку, из возка вышла совсем еще юная девушка с нежным, молочно-белого цвета лицом, золотистыми волосами и большими голубыми глазами. Несмело ступая по расстеленному прямо на сырой земле огромному ковру, княжна Айгуста, за которой на почтительном расстоянии следовали человек, открывший дверцу возка, толмач и несколько немолодых женщин, вышедших следом за ней, медленно поднялась по ступеням и, остановившись перед великим князем, смущенно потупила взор.
Иван Данилович с сомнением оглядел будущую невестку: худа да бледна, точно тень; от такой не жди доброго потомства. Тем не менее, он с ласковой улыбкой обнял девушку и отечески поцеловал ее в лоб:
— Ну, здравствуй, дитятко, с приездом. И без того меня дочерьми бог не обидел, а топерь еще одна будет. Как поживает родитель твой державный, в добром ли он здравии?
— Мой отец, великий князь Гедиминас, здоров и шлет тебе, великий князь Иван, самый сердечный привет и выражает надежду, что теперь, когда наши семьи породнятся, Литва и Русь всегда будут жить в мире и согласии, — слегка запинаясь, заученным голосом произнесла в ответ Айгуста.
Вечером, когда княжна уже успела отдохнуть с дороги, по случаю ее приезда был устроен большой пир. Огни сотен свечей благостно играли на вычищенной до блеска золотой и серебряной посуде, заставляли переливаться разноцветным светом неисчислимые драгоценности, украшавшие одежду и пальцы гостей. Слуги в красных вышитых кафтанах бесшумно, как тени, скользили за спинами пирующих, внося и убирая огромные блюда с яствами. Из угла, в котором добросовестно отрабатывали свой хлеб княжеские гусляры, по всей палате расплескивались задумчивые, тягучие и немного заунывные звуки, заглушаемые становившимся все более оживленным гулом голосов и звоном ударяемых друг о друга кубков. Не желая осрамиться перед литвинами, московские бояре, против обыкновения, лишь пригубляли содержимое своих чар; тех же, кто не мог побороть искушение и начинал терять человеческий облик, незаметно для остальных под руки выводили из палаты.
Айгусту и Семена посадили друг против друга, чем доставили юной литовской княжне немало мучений: Семен не сводил со своей нареченной пронзительного горящего взгляда, повергая ее в величайшее смущение. Заметив, что княжна чувствует себя неловко, Иван Данилович решил отвлечь ее разговором.
— Ты еще не крещена, дитя мое? — спросил князь, отставив в сторону опустевший кубок Стоявший позади княжеский кравчий тут же поспешил наполнить его из тонкогорлого серебряного кувшина.
— О, нет, — молвила девушка, бросая на князя благодарный взгляд. — Но в Вильне я несколько раз бывала в церкви; там жрецы рассказывали мне о боге, которого казнили за грехи людей. Но я, признаться, так и не поняла: почему же он не сбежал из тюрьмы до того, как его убили, если даже мертвый он сумел покинуть гробницу?
При последних словах княжны смешливый Андрей громко прыснул с набитым ртом, едва не подавившись, но под строгим взглядом отца прикусил губу.
— Н-да... Надобно будет попросить владыку Феогноста побеседовать с тобой. Он привьет тебе должное понятие о святых истинах, — доброжелательно обратился Иван Данилович к вконец смутившейся княжне.