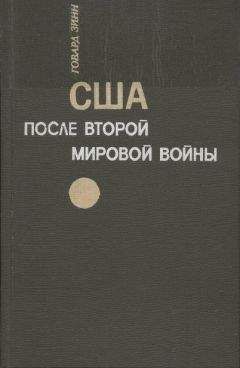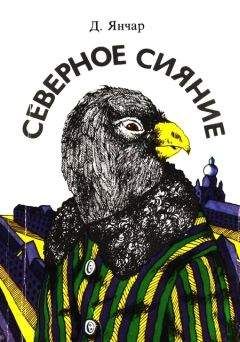Серена Витале - Пуговица Пушкина
Тем временем Никита Козлов помог Пушкину выбраться из кареты, поднял его на руки и так, с хозяином на руках, поднялся по нескольким ступеням и внес его в дом. «Грустно тебе нести меня?» — спросил его Пушкин. Натали вскрикнула и лишилась чувств, когда увидела своего истекающего кровью мужа в прихожей. Пушкин настоял, чтобы его положили в кабинете, и велел постелить на диване. Он снял с себя окровавленную одежду, надел чистое белье и лег. Только тогда он послал за Натали. Она уже стояла у дверей, но ее попытку войти раньше Пушкин пресек грозным: «N'entrez pas!» Ей пришлось ждать в гардеробной, заламывая руки, вместе с сестрой и Плетневым, которого привело в дом друга тревожное предчувствие, хотя он и ожидал увидеться с ним, как обычно, в среду.
«Будь спокойна, ты невинна в этом», — это были первые слова Пушкина, обращенные к жене. Тем временем Данзас вышел, чтобы привести врача. Ни Арендта, ни Саломона, ни Персона не было дома. Жена последнего посоветовала обратиться в ближайший сиротский приют. Д-р Вильгельм фон Шольц уже выходил, когда прибыл Данзас. Шольц, поскольку был акушером, пообещал разыскать сведущего в ранениях врача и через несколько минут подъехал к дому на Мойке вместе с Задлером, который в это время возвращался из дома голландского посланника, куда его вызвали осмотреть руку Дантеса. Обследовав Пушкина, Задлер отправился за инструментами: он считал, что может понадобиться операция.
Пушкин остался наедине с Шольцем. «Что вы думаете о моей ране? — спросил он. — Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу, дорогою шло много крови. Скажите мне откровенно, как вы рану находите?» — «Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная». — «Смертельна?» — «Считаю долгом вам это не скрывать. Но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано». — «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi; il faut que j’arrange та maison»[74]. Несколько минут спустя Пушкин пожаловался: «Мне кажется, что много крови идет?» Шольц осмотрел рану: кровотечение, казалось, прекратилось — и велел подать новый холодный компресс. Он спросил Пушкина, не хочет ли тот повидать кого-то из своих близких друзей. «Прощайте, друзья», — тихо сказал Пушкин, оглядывая комнату, возможно, мысленно расставаясь со своими книгами. «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» — спросил он Шольца. «О нет, — запинаясь от волнения, пробормотал акушер, — но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Г-н Плетнев здесь». — «Да — но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит». Проверив пульс Пушкина — он был «малым и скорым, как при внутреннем кровотечении», — Шольц покинул кабинет, чтобы спросить воды и послать за Жуковским.
Как только ушел д-р Шольц, История и Легенда, невидимые, скользнули в прямоугольную комнату, заполненную книгами, которые закрывали все стены до самого потолка и грудились на полках, отгораживающих диван. Не дожидаясь смерти поэта, они уже начали оценивать его слова и дела. Даже такой трезвомыслящий историк, как Александр Тургенев, несколько писем которого были написаны в комнате по соседству, где за стенкой лежал умирающий Пушкин, — и тот мысленно адресовал эти свои произведения России и будущим поколениям. Но по крайней мере в одном эти письма отличаются, как и позже написанные Жуковским и князем и княгиней Вяземскими, от свидетельства доктора Спасского, который прибыл вскоре после семи, и от воспоминаний Данзаса. И это важное отличие. По мнению Тургенева (и Жуковского, и Вяземских), Пушкин принял причастие после того, как царь Николай I послал Арендта к поэту с пожеланием ему принять смерть по-христиански. В то же время Спасский и Данзас утверждают, что Пушкин согласился принять таинство до получения царского послания. Мы склоняемся к последней версии, поскольку хотелось бы считать, что Пушкин был свободен в принятии самостоятельного решения, особенно в таком деликатном вопросе. Но еще и потому, что есть непреодолимое желание представить себе, что историческое царственное повеление было получено после того, как душа поэта уже была спасена. А поскольку царю никто не осмелился доложить правду, он мог сказать с уверенностью в душе, что «мы насилу довели его до смерти христианской», таким образом создав очередную поучительную легенду, повсеместное распространение которой вытеснит правду.
Задлер вернулся в дом № 12 на Мойке почти сразу после доктора Саломона и Николая Федоровича Арендта, лейб-медика и самого известного врача России. Арендт подтвердил прогноз предшественников: на выздоровление нет надежд, Пушкин не переживет и ночи. Он чувствовал, что операция бесполезна и может только усилить внутреннее кровотечение; он прописал лед, успокоительное и очистительную клизму. Следующим приехал Спасский, семейный доктор Пушкиных. «Что, плохо?» — сказал Пушкин, когда увидел его в дверях, и махнул рукой, когда врач попытался ободрить его какими-то словами надежды. Не было нужды ему лгать, он и так знал правду. Арендт покинул дом. «По желанию родных и друзей» Спасский спросил Пушкина, не хочет ли тот причаститься. Да, он хотел. «За кем прикажете послать?» — «Возьмите первого, ближайшего священника». Ему вспомнилось то раннее утро, когда он получил извещение о смерти молодого Николая Греча. «Если увидите его отца, — сказал он Спасскому, — кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». Прибыл престарелый отец Петр из ближайшей церкви на Конюшенной площади рядом с Мойкой. Вернулся Арендт. «Больной исповедался и причастился». Когда Спасский пришел обратно в кабинет, Пушкин спросил, как держится жена. Врач снял тревогу, как мог: Наталья Николаевна успокоилась. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — произнес Пушкин. Он боролся с двумя противоречивыми чувствами: с одной стороны, он не хотел, чтобы друзья и доктора открыли ей всю серьезность его состояния, с другой — боялся, что его жена, убаюканная надеждой, может произвести впечатление равнодушной: уж если она кажется спокойной в такой момент, то свет и вовсе ее отвергнет. «Бедняжка, бедняжка», — повторял он. Пушкин позвал Арендта: «Попросите государя, чтобы он меня простил, попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Уходя очередной раз, Арендт пообещал еще вернуться. На это время он предоставил Пушкина заботам Спасского. «Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время». Арендт вернулся вскоре после одиннадцати и принес торопливо написанную карандашом записку от царя: «Если Бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение». Спасский, снова оказавшись у ложа Пушкина, спросил его распоряжений. — «Все жене и детям». Он попросил Спасского подать ему лист бумаги, на котором было что-то написано по-русски — доктор узнал почерк поэта, — и сжег его. Затем сказал: «Позовите Данзаса». Он хотел остаться наедине со своим другом, чтобы продиктовать ему имена людей, которым он был должен без каких бы то ни было долговых расписок или документальных подтверждений, и подписал это слабеющей нетвердой рукой. Данзас пробормотал, что отомстит за него и пошлет Дантесу вызов на дуэль. Пушкин решительно запретил ему и думать об этом. Он несколько раз позволил жене зайти к нему, и каждый раз всего на несколько минут. Натали металась между взрывами истерического отчаяния и мгновениями безумной надежды, когда она не уставала повторять: «Он не умрет, я знаю, что он не умрет». Александрина со своей пожилой теткой и княгиней Вяземской заботились, чтобы она никогда не оставалась одна, даже по ночам, и устраивались на ночь на диванах в гардеробной; Данзас и Вяземский ночевали в прихожей. Остальные друзья поспешили в дом, как только услышали о несчастье, и ушли лишь поздно вечером: Жуковский, Виельгорский, князь Мещерский, Валуев, Тургенев. Но никому из них не разрешили повидаться с поэтом. С Пушкиным оставался Спасский. В моменты облегчения страданий Пушкин как-то рассказал ему, что цифра «6» всегда приносила ему несчастье. «Его беды начались в 1836 году, когда ему было 36, а его жене исполнилось 24 года (2 + 4 = 6); в шестой главе „Евгения Онегина“ содержится нечто вроде предвидения его собственной смерти и так далее. Другими словами, умирающий Пушкин сам проводил печальную параллель между собой и Ленским». Боли усилились к четырем часам утра, стоны сменились хриплыми дикими вскриками. «Зачем эти мучения, — спрашивал он Спасского, — без них я бы умер спокойно». Пришлось вызвать Арендта — поставили промывательное; чрезвычайно болезненная процедура только усилила страдания раненого. Несколько раз, содрогаясь в конвульсиях, Пушкин чуть не падал с дивана, лоб его покрылся холодным потом, а глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит. Этой ночью он решил покончить с собой и приказал Никите Козлову подать ящик с пистолетами. Слуга повиновался, но предупредил Данзаса, и пистолеты, уже спрятанные под простыней, унесли прочь. Когда начало светать, Пушкин попросил позвать жену. Натали была погружена в забытье, похожее на летаргический сон, когда из кабинета послышались особенно страшные крики; она услышала только последний — как ей объяснили, он донесся с улицы. Пушкин тогда дал последний совет своей юной жене: «Ступай в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но за человека порядочного». Он захотел попрощаться с друзьями. Жуковский, Вяземские, Виельгорский, Тургенев, Данзас по очереди заходили к нему в кабинет. Несколько слов прощания и слабое рукопожатие. Затем Пушкин жестом попросил оставить его одного. Жуковский задал ему вопрос: «Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя?» — «Скажи ему, что мне жаль умереть, потому что не могу изъявить ему мою благодарность; был бы весь его». Пушкин позвал Плетнева и Карамзину. За Екатериной Андреевной послали. Он попросил привести к нему детей. Их привели в кабинет еще полусонных. Пушкин посмотрел на них, благословил, протянул свою уже похолодевшую руку к губам Маши, Гриши, Саши и Таши. Жена его упрямо отказывалась верить в происходящее. «Quelque chose те dit qu’il vivra», — шептала она, глядя на людей с потрясенными лицами и покрасневшими от слез глазами, выходивших из кабинета мужа. Приехала г-жа Карамзина. Это прощание тоже длилось немногим больше минуты. Вставая с дивана, она осенила крестным знамением ложе умирающего и направилась к дверям. Пушкин окликнул ее и попросил перекрестить его еще раз. После этого к нему пустили жену. Это был последний момент для того, чтобы сказать ей правду: Арендт уже вынес свое заключение, у него осталось очень мало времени, возможно, несколько часов. Натали бросилась на колени перед иконами с причитаниями и рыданиями. Передняя была заполнена людьми: друзьями, знакомыми и незнакомыми, пришедшими узнать о состоянии Пушкина. Парадная дверь постоянно открывалась — и этот шум беспокоил больного. Решили закрыть ее вовсе, приставив комод, и открыть дверь черного хода. На этой маленькой, видавшей виды двери кто-то кусочком угля написал Пушкин. Там был вывешен и краткий бюллетень о состоянии здоровья поэта, написанный Жуковским: «Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет; но также нет, и еще и быть не может облегчения». Около полудня вернулся Арендт, от которого Пушкин с нетерпением ждал известий о прощении Данзаса, что дало бы ему возможность «умереть спокойно». Но единственным облегчением, предложенным ему лейб-медиком, были капли опия, которые Пушкин тут же охотно выпил. До этого он решительно отвергал всякое лечение, несмотря на то, что невыносимые боли терзали его все это мучительное утро. Тем временем царь, вернувшись в свой кабинет в Зимнем дворце, говорил Жуковскому о своем удовлетворении тем, что Пушкин выполнил перед смертью долг доброго христианина, приняв причастие; относительно Данзаса царь сказал, что не в его власти менять законы, но он сделает для него все возможное. Именно во время этой беседы царь велел Жуковскому опечатать кабинет поэта сразу после его уже неминуемой смерти; он также приказал ему просмотреть все оставшиеся записи поэта, — позже, не торопясь, — с тем чтобы уничтожить все компрометирующие бумаги, какие обнаружатся. Вернувшись в дом на Мойке, Жуковский смог успокоить своего умирающего друга относительно судьбы Данзаса. Приехала Елизавета Михайловна Хитрово. Она плакала, рвала на себе волосы и обвиняла весь белый свет в случившейся трагедии. Ее не пустили в кабинет. Около двух часов пополудни приехал Даль. «Плохо, брат!» — такими словами встретил его Пушкин. Он был уже совершенно изможден к тому времени и иногда впадал в безразличное оцепенение, не похожее на потерю сознания. Жена и друзья постоянно сменялись у его постели — по несколько человек сразу. «Все мы надеемся, — постарался Даль ободрить его, — не отчаивайся и ты!» — «Нет, мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо». Он опять ужасно мучился и страдал после того, как закончилось действие опия. Руки сжимались в кулаки, он кусал себе губы, чтобы удержаться от крика. Его состояние, похоже, внезапно ухудшилось к шести часам вечера; пульс достигал 120 ударов в минуту, поднялась температура, нарастали признаки возбуждения и усиления его недомогания. Следуя предписаниям Арендта, Спасский и Даль стали ставить пиявки. Пушкин сам ставил их себе на живот вокруг раны — здесь он не хотел терпеть чужих прикосновений. Средство подействовало быстро: пульс вернулся к норме, температура упала, а напряженный живот расслабился. Именно в этот вечер, наверное, в душе Даля забрезжила искра надежды — скорее, он поверил в это сердцем, чем разумом. Увидев на лице друга облегчение, Пушкин тоже подумал о призрачной возможности поправиться, но вскоре отказался от этой иллюзии. Наступала ночь агонии. Он постоянно спрашивал Даля, который час, и приходил в ярость от ответов: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее!» Теперь поэт разговаривал с собственной смертью и следил за ее приближением, постоянно считая свой пульс и делая собственные замечания о ее веющем холодом, неторопливом приходе. «Вот смерть идет», — несколько раз сказал он. Эту вторую ночь страданий он провел держа Даля за руку. И тогда, и теперь он сам брал стакан воды, чтобы с ложечки сделать несколько глотков. Он обкладывал себе лоб кусочками льда и сам менял компресс на животе. Хуже боли, по словам его, была та ужасная тоска, которая терзала его, разрывая ему сердце. Он просил Даля помочь ему сесть, или повернуться на бок, или перевернуть подушку, но тут же останавливал его: «Ну, так, так, хорошо; вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!» — или: «Постой — не надо — потяни меня только за руку». Даль убеждал его не стесняться боли: «Стонай, тебе будет легче». — «Нет, не надо — жена услышит, и смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил, не хочу». Новый бюллетень был вывешен утром 29 января: «Больной находится в весьма опасном положении». Дыхание стало прерывистым и частым, пульс падал с каждым часом. Пушкин несколько раз звал жену этим последним утром 29 января 1837 года; ему уже трудно было говорить, и он просто держал ее за руку. Иногда он не узнавал ее. Натали была подле него, когда он вдруг спросил Данзаса, думает ли тот, что он сегодня умрет, и добавил: «Я думаю, по крайней мере, желаю. Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставляют в покое; вчера мне не давали покоя». Около полудня он попросил зеркало. Бросив быстрый взгляд на свое отражение, он махнул с досады рукой. Доктора заметили, что его руки и ноги были уже холодны. Лицо его тоже ужасно изменилось; и все-таки смерть не приходила. «Ти vivras, tu vivras!» — повторяла снова и снова Натали, хотя врачи не разрешали ей подолгу находиться с мужем. В ожидании смерти поэт лежал вытянувшись на диване, согнув колено и заложив руку за голову — та его поза, в которой в иные дни он сочинял стихи. Около половины второго г-жу Хитрово допустили к постели поэта. Элиза разразилась рыданиями, упав на колени. После ее ухода Пушкин опять спросил Даля: «Скажи, скоро ли это кончится? Скучно!» И несколькими минутами позже: «Опустите шторы, я спать хочу». Похоже, что он действительно какое-то время спал, но вдруг открыл глаза и попросил морошки. В доме ее не было; кто-то со всех ног бросился за покупкой. Пушкин нетерпеливо повторял: «Морошки, морошки!» Он захотел, чтобы его покормила жена. Опустившись на колени у дивана, Наталья Николаевна поднесла маленькую ложечку к его губам, он съел с ее помощью две-три ягодки и выпил глоток сока. Она прислонилась лицом к его лбу. Он погладил ее по голове. «Ну, ничего, — сказал он, — слава Богу, все хорошо». И отослал ее. «Вот увидите, — сказала она Спасскому, — он будет жив, он не умрет». Даль снова проверил пульс Пушкина. Он долго не мог его найти; все тело Пушкина было холодным. Подойдя к Жуковскому и Виельгорскому, Даль сказал: «Отходит». «Ну, подымай же меня, — произнес Пушкин с закрытыми глазами, — пойдем, да выше, выше, ну, пойдем!» Очнувшись от забытья, затуманившего его мысли, он объяснил Далю, как будто извиняясь: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась». Через несколько секунд он взял Даля за руку и начал опять: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» И упал на спину, потеряв сознание. Но сознание вернулось к нему, он попросил повернуть его на правый бок. Данзас и Даль взяли его под мышки и бережно приподняли; Спасский подложил подушку под спину. «Хорошо, — сказал Пушкин, а затем произнес: — Кончена жизнь». Даль не расслышал слов, сказанных едва слышным шепотом, и вначале понял неверно и ответил: «Конечно, мы кончили». Но внезапно он догадался и переспросил: «Что кончено?» — «Жизнь кончена», — ответил поэт совершенно внятно. И продолжил: «Тяжело дышать, давит». Его грудь едва поднялась, когда он испустил последний слабый вздох. Чуть позже — в 2.45 — д-р Андреевский закрыл ему глаза. Наталью Николаевну не допустили внутрь; у его ложа были Даль, Спасский, Жуковский, Виельгорский, княгиня Вяземская и Тургенев. В три часа Тургенев, сидя за столом в доме Пушкиных, написал: «Жена все не верит, что он умер; все не верит. Между тем тишина уже нарушена. Мы говорим вслух — и этот шум ужасен для слуха; ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали».