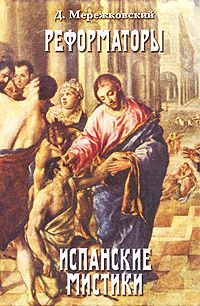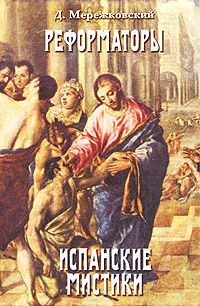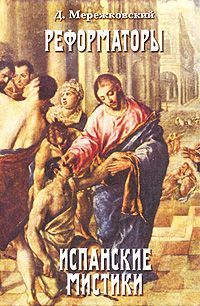Дмитрий Мережковский - Реформы и реформаторы
– Говорить нам, Петр Андреич, больше не о чем и видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь?
– Имею повеление, – возразил Толстой тихо и посмотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки, – имею повеление не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя; и если бы перевезли тебя в другое место, и туда буду за тобою следовать.
Потом прибавил еще тише:
– Отец не оставит тебя, пока не получит живым или мертвым.
Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул.
– Всемилостивейшей особы вашего высочества всепокорный слуга.
И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел.
Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение.
Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшною тяжестью.
Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнгарту.
– Император настаивает, – шепнул он ему, – чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет. У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда-нибудь, при случае, скажите вы.
V
«Мои дела в великом находятся затруднении, – писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену. – Ежели не отчается наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут; а он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вице-роя в нашу пользу; да не можем преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю; а почта отходит».
Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте – все погибли, он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, пятидесяти лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать вместе с прочими «российскими младенцами» в чужие края для изучения навигации – и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы Семибашенного замка – и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег, но, не успев отослать, умер скоропостижно; а Толстой объяснил: «Вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомившись с турками; Бог мне помог об этом сведать; я призвал его тайно, и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи, а ночью выпил он рюмку вина и скоро умер; так его Бог сохранил от беды».
Недаром он изучал и переводил на русский язык «Николы Макиавеля, мужа благородного, флорентинского, увещания политические». Сам Толстой слыл Макиавелем Российским. «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел!» – говорил о нем царь.
И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича эта умная голова не оказалась глупою, Макиавель Российский – в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать: опутал царевича тонкою и крепкою сетью; внушил каждому порознь, что все остальные тайно желают выдачи его, но сами, стыдясь нарушить слово, поручают это сделать другим: цесарева[40] – цесарю, цесарь – канцлеру, канцлер – наместнику, наместник – секретарю. Последнему Толстой дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались о «замерзелое упрямство».
Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. «Должно знать свою планету», – говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит Андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал.
Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем?
Но теперь он думал не о потере царской милости, Андреевской ленты, графского титула, – как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что зверь уйдет.
Через несколько дней после первого свидания с царевичем Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев в гостинице «Трех королей» на самой бойкой улице Неаполя, Виа-Толедо. В ночном шлафоре, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его – вместе с книгой «Метаморфосеос, или Пременение Овидиево», которую он переводил на русский язык, – его собственная метаморфоза, баночки, кисточки и великолепный алонжевый парик с юношескими черными как смоль кудрями – лежали в уборной на столике перед зеркалом.
На сердце кошки скребли. Но, как всегда в минуты глубоких раздумий о делах политики, имел он вид беспечный, почти легкомысленный: переглядывался с хорошенькою соседкою, тоже сидевшею на балконе в доме через улицу, смуглолицею черноглазою испанкою из тех, которые, по слову Езопки, «к ручному труду не охочи, а заживают больше в прохладах», улыбался ей с галантною любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа, и напевал своего собственного сочинения любовную песенку «К девице», подражание Анакреону:
Не бегай ты от меня,
Видя седу голову;
Не затем, что красоты
Блистает в тебе весна,
Презирай мою любовь.
Посмотри хотя в венцах,
Сколь красивы, с белыми
Ландышами смешаны,
Розы нам являются!
Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе.
По определению Толстого, Румянцев «был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче касающееся до компании; но более был счастлив, нежели к высоким делам способен, – только имел смельство доброго солдата» – попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался: «Дураками-де свет стоит, – замечал Петр Андреич. – Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам».
Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок.
– Тутошние девки к нашему брату зело грабительницы!
Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад здесь же, в Неаполе; про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами:
– Был я инаморат[41] в синьору Франческу, и оную имел за метресу во всю ту свою бытность. И так был инаморат, что не мог ни часу без нее быть, которая коштовала мне в два месяца 1000 червонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти…
Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке.
– А что наш зверь? – спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело.
Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, Езопкою тож.
Напуганный угрозою Толстого схватить его и отправить в Петербург как беглого, Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.
Румянцев узнал от Езопки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Ефросинье.
– Оная девка весьма в амуре профитует и, в большой конфиденции плезиров ночных, такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет, только попа не найдет, а то б уж давно повенчались.
Рассказал также о своем свидании с Ефросиньей, устроенном, благодаря Езопке и Вейнгарту, тайно от царевича, во время его отсутствия.
– Персона знатная во всех статьях – только волосом рыжая. По виду тиха, воды, кажись, не замутит, а, должно быть, бедовая – в тихом-то омуте черти водятся.
– А как тебе показалось, – спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль, – к амуру инклинацию[42] имеет?
– То есть, чтобы нашего-то зверя с рогами сделать? – усмехнулся Румянцев. – Как и все бабы, чай, рада. Да ведь не с кем…
– А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Небось, с этаким-то молодцом всякой лестно! – лукаво подмигнул Толстой.
Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же как у царя, кошачьи усики.
– С меня и Камилки будет! Куда мне двух?
– А знаешь, господин капитан, как в песенке поется:
Перестань противляться сугубому жару:
Две девы в твоем сердце вместятся без свару.
Не печалься, что будешь столько любви иметь,
Ибо можно с услугой к той и другой поспеть;
Уволив первую, уволь и вторую,
А хотя б и десяток – немного сказую.
– Вишь ты какой, ваше превосходительство, бедовый! – захохотал Румянцев, как истый денщик, показывая свои белые ровные зубы. – Седина в бороду, а бес в ребро!