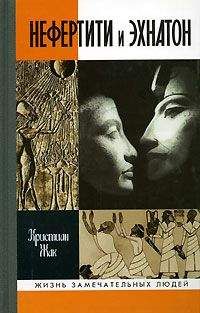Зигфрид Обермайер - Под знаком змеи.Клеопатра
Человек, попробовавший ее, вел себя так, будто опорожнил два кувшина вина: бормотал какую-то чушь, и если вовремя не дать ему рвотное, то через несколько часов он умирал. Врачам пришлось строго-настрого запретить рвать эту траву, пока все не поняли наконец, насколько она опасна.
Враги придумали еще одну хитрость. По пути мы будто бы случайно встречали каких-нибудь торговцев, которые сносно говорили по-гречески и, казалось, хорошо знали местность. Они приветливо указывали нам дорогу, однако потом мы обнаруживали, что она была неверной. Нам приходилось возвращаться, и мы вновь теряли время.
Но и это было еще далеко не все. Когда мы спускались в долину с нашими усталыми, измученными и голодными лошадьми, мы обнаруживали только сгоревшие поля пшеницы и зараженные или отравленные колодцы и источники. Иногда они были забросаны трупами, среди которых нередко попадались также тела римских легионеров. При других обстоятельствах это разожгло бы в солдатах гнев и боевой дух, но сейчас каждый хотел как можно скорее убраться из этой проклятой страны.
Разве можно упрекать бедных парней в том, что некоторые из них переходили на сторону врага, видя в этом единственное спасение. Истощенные, измученные жаждой, больные или искалеченные, они с трудом пробирались по этой безжалостной пустыне, каждый день подвергаясь всевозможным опасностям и зная, что на следующем привале их, может быть, ждет отравленная вода, а утолить свой голод они смогут только крошечной порцией мяса и для этого им придется убить очередного коня или мула.
Каждому было ясно, что дезертиров и перебежчиков ждала позорная смерть, и все же подобные случаи время от времени происходили, до тех пор пока не стало известно, как поступали с этими несчастными. Парфяне ради забавы подвергали их мучительной смерти: ослепляли, отрезали уши, носы и гениталии и отсылали к нам обратно. Так что желающие спастись бегством теперь предпочитали лучше голодать вместе с товарищами.
Когда наши с Салмо лошади погибли, император сразу же приказал дать нам других, потому что, сказал он, здоровье и подвижность его врачей для него важнее, чем удобство нескольких легионеров. Теперь даже многие из офицеров шли пешими, чтобы сберечь силы истощенных и измученных коней, в надежде, что мы когда-нибудь встретим несгоревшее поле пшеницы и пригодную для питья воду. Однако цель эта казалась невообразимо далекой. К тому же враг вовсе не собирался оставлять нас в покое, и мы несли все новые потери. В конце концов несколько опытных офицеров предложили императору при следующем нападении образовать «черепаху».
Потренировавшись несколько раз, легионеры вскоре смогли на практике применить этот прекрасный способ защиты.
При этом легковооруженные солдаты; вьючные животные и всадники собираются в центре, а тяжеловооруженные воины образуют снаружи вокруг них что-то вроде прямого угла и, опустившись на левое колено, поднимают свои большие выпуклые щиты, так чтобы между ними не оставалось ни малейшего зазора. Центр прикрывают воины с плоскими щитами, и лишь по чистой случайности стрела может поразить кого-нибудь.
Парфянским лучникам издалека показалось, что это их выстрелы повергли солдат наземь. Они отбросили свои луки и устремились вперед, чтобы добить врага длинными пиками. Однако римляне вдруг вскочили и устроили им ужасную резню. Лишь немногим удалось спастись бегством, но они рассказали остальным об этой римской хитрости, так что больше уже парфяне на нее не попадались.
В таких обстоятельствах даже мне приходилось иногда защищать свою жизнь с оружием в руках.
Тяжелее всего пришлось нам, когда среди врагов уже разнеслась весть о нашей «черепахе». После первой атаки лучники откатились назад и на нас бросились сотни тяжеловооруженных парфян. Прежде чем нам с Салмо удалось пробиться к центру, на нас накинулись двое парфян с длинными кривыми мечами.
В Салмо проснулся прежний боевой дух, он спрыгнул с лошади и с такой силой вонзил копье в напавшего на него врага, что оно отбросило того на несколько шагов назад.
Мне, с моим коротким широким мечом, пришлось труднее, но страх смерти пробудил во мне силы, о которых я и не подозревал. Противник ранил меня в запястье, и я, пошатнувшись, выронил меч. Салмо поспешил мне на помощь со своим копьем. Парфянин повернулся к нему. Не раздумывая, я выхватил из сумки костеподъемник и метнул его в лицо врагу. Те, кому знаком этот инструмент, знают, каким грозным оружием он может стать. Задев противнику скулу, он угодил ему в глаз. Охваченный жаждой убийства, я нанес ему еще удар по черепу. Вскинув руки, парфянин с хрипом рухнул наземь.
Вынув из него свой медицинский инструмент, превратившийся в оружие, я вытер остатки мозга о плащ, совсем как после проведенной операции, Салмо куда-то исчез, бой несколько отодвинулся, парфяне, казалось, отступают. Я отыскал свой меч, хотел поднять его и тут только заметил, что моя правая рука бессильно повисла и с нее течет кровь. Подняв меч левой рукой, я спрятал его обратно в ножны и затем осмотрел рану. К счастью, кость была не задета, но порез был настолько глубок, что только через несколько дней я вновь смог пользоваться рукой.
Тогда я не осознавал этого, и только позднее мне стало ясно: война, особенно если она длится так долго, все более ожесточает людей, и вещи, которые возмутили бы тебя раньше, теперь совершенно не трогают. Как раз это произошло с римлянами. И тем не менее еще находятся те, кто говорит о нравственной ценности войны, ссылаясь при этом на философа Гераклита[52] и его губительное утверждение: «Война — отец всех вещей». Война, по их мнению, обостряет чувства, способствует пробуждению творческих сил и быстроте действий и служит движению человечества вперед.
Может быть, для каких-нибудь высших офицеров это и верно, но для массы простых солдат война не приносит ничего, кроме увечий, страданий, а часто и смерти. Сражения все больше и больше отупляют их, и чужие страдания с каждым разом трогают все меньше — они превращаются в бесчувственные машины для убийства.
Не знаю, как долго мы еще были в пути — может быть, десять дней, а может, двенадцать или четырнадцать. Все были измучены усталостью, голодом и жаждой, страдали от ран и болезней. Через каждые несколько стадий кто-то падал, обессилев. Иногда, на его счастье, товарищи поднимали его и — сами совершенно ослабевшие — волокли еще некоторое время, а потом, если он так и не приходил в себя, все же бросали. Лошадей и мулов не хватало даже для больных, и многие животные были так слабы, что им не род силу был и малейший груз, так что приходилось просто вести их.
Мы с Салмо часто сопровождали отряды, отправлявшиеся на поиски продовольствия, потому что только таким способом можно было время от времени хотя бы наполовину наесться. Парфия не такая страна, где плоды можно просто срывать с деревьев. Все, что удавалось нам получить, приходилось добывать силой — разбоем, грабежом или в сражениях.
В тот день рано утром мы напали на стоянку пастухов, которые еще спали и не слышали, как мы подошли. Все они сломя голову бросились бежать. Однако мы и не думали преследовать их, а набросились на то, что они оставили: молоко, сыр, хлеб и несколько мешочков сушеных фиников и фиг. Мы без разбора хватали все, что попадалось под руки.
Никто и не думал о том, чтобы поделиться с другими или принести что-нибудь войску. Каждый кусок сыра и глоток молока, каждый финик означал возможность выжить.
Центурион торопил нас:
— Прочь! Нам надо поскорее убираться! Если парфяне застанут нас здесь, нам конец!
— Он прав, — сказал Салмо, — надо сматываться!
Тут взгляд мой упал на кучу необработанных овечьих шкур, испускавших отвратительную вонь. Мне показалось, что там что-то шевельнулось, и из любопытства я решил взглянуть на них поближе. Спрыгнув с лошади, я несколько раз ткнул в эту кучу мечом. Кто-то взвизгнул, и из-под окровавленных, облепленных мухами шкур высунулась тонкая рука. Салмо схватил ее и вытянул на свет девочку лет двенадцати или четырнадцати, которая сразу же закрыла глаза и задрожала.
На ней была короткая полотняная рубашка: что-то вроде простой туники без рукавов. Она стояла перед нами, вся перепачканная кровью и навозом, и чресла мои наливались неодолимой похотью. Пока я был голоден, страдал от жажды и постоянно должен был бороться за жизнь, во мне, разумеется, отсутствовало всякое стремление к противоположному полу. Но теперь я был сыт, и желание охватило меня с такой силой, что я не раздумывая сорвал с девочки одежду и силой овладел ею, повалив на вонючие шкуры. Меня не трогал ни жалобный визг девочки, ни присутствие Салмо, ни угроза нападения парфян.
Потом я встал и обратился к Салмо, который стоял от меня в нескольких шагах, повернувшись спиной:
— Давай займись! Кто знает, когда ты снова встретишь девушку.