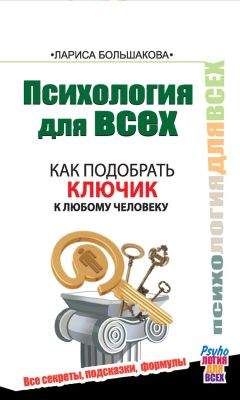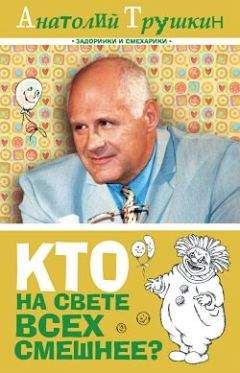Дмитрий Вересов - Генерал
Выступление генерала Власова было назначено, если мне не изменяет память, на 10 часов утра. Зал театра был способен вместить примерно около двух тысяч человек – и он был набит битком к часу начала торжественного собрания, так что не каждый желающий мог пройти в театр. Как гражданское население, так и военные допускались лишь по пригласительным билетам. Эти билеты были распределены по учреждениям и предприятиям города, а также среди крестьянского населения. Таким образом было достигнуто, что участниками собрания были представители всех без исключения слоев населения и даже военнопленные. В первых рядах сидело довольно большое число немецких офицеров. Сцена театра была украшена русскими трехцветными и красными немецкими флагами, транспарантами, зеленью. Власов вошел в зал в сопровождении целой свиты немецких офицеров. Словно по команде, все присутствующие в едином порыве поднялись со своих мест и бурными продолжительными аплодисментами приветствовали генерала.
Когда генерал Власов занял место в первом ряду, к нему подошел один офицер (не могу припомнить точно, кто это был, но кажется – немецкий офицер, говоривший по-русски). «Господа, – сказал он, обращаясь к залу, – разрешите вам представить генерала Власова». Генерал Власов поднялся со своего места и, повернувшись лицом к залу, сказал: «Здравствуйте, господа!» Снова все встали, и снова долго гремели аплодисменты.
Затем на сцену вышел Б. Он говорил, как обычно, хорошо и удостоился в дальнейшем похвалы генерала Власова. После того как Б. кончил говорить, тот же офицер, игравший роль неофициального председателя, объявил: «Слово имеет генерал Власов». Под аплодисменты генерал Власов поднялся на сцену. Он говорил не по бумажке, а от себя, его речь была очень яркой и произвела большое впечатление. Зал слушал генерала Власова, затаив дыхание, лишь аплодисментами прерывая время от времени его доклад. Ценность речи генерала заключалась в том, что он говорил о всех вещах совершенно по-новому для псковичей. Он говорил то, что думал каждый настоящий русский, и так, как об этом нужно было говорить, обращаясь к русскому населению, а не так, как о подобного рода вопросах изъяснялась немецкая пропаганда.
В своей речи генерал коснулся всех основных вопросов РОД, уделив должное внимание и вопросу борьбы с большевизмом, и вопросу сотрудничества с немцами, и вопросу государственно-политического и хозяйственного устройства новой России. Доклад генерала имел огромный успех, и, когда он, окончив, сошел со сцены и, покидая зал, направился к выходу, все стоя восторженно аплодировали и кричали «ура», пока высокая фигура генерала не скрылась за дверью зала.
7 августа 1944 года
Участившиеся бомбежки Дабендорфа теперь уже не волновали никого, кроме новобранцев. Главная опасность подстерегала отнюдь не с воздуха. Трухин знал, что некоторые офицеры из персонала даже спали одетыми, опасаясь ареста. В принципе, правильно делали, ибо нет ничего беспомощней и неприглядней офицера в нижнем белье, только продравшего глаза от сна. И стрелять, и стреляться несподручно. Однако сам он не позволял себе такой слабости и, наоборот, приказал менять постельное белье чаще. Разумеется, о встречах со Стази не могло быть и речи; после ночи на 21 июля, когда выяснилось, что Гитлер жив и почти невредим, он отправил ее обратно с приказанием молчать и не показываться в лагере до его вызова.
Среди подчиненных царили настроения близкие к панике, и надо было прилагать в два, в три раза больше усилий, чтобы машина работала своим чередом, без сбоев и неожиданностей. И только вечерами, сыпавшими с небес обильные звезды, он позволял себе посмотреть правде глаза – и то не мысленно, а в дневнике. Дворянская привычка вести дневники была давно выжжена каленым железом советской власти, и сейчас Федор взялся за них только потому, что иначе становилось уж совсем невыносимо. Он описывал факты, только факты, никаких эмоций и лирики, никаких имен, кроме самых известных.
Но и это удавалось нечасто. К нему в комнату, как бабочки на огонь, слетались офицеры школы, и только железная воля Трухина позволяла вести общий разговор, не сводя его к обсуждению последствий неудачного заговора. Но так обстояло дело со средним звеном и пропагандистами – когда же появлялся кто-то из своих, все неизбежно сворачивали к одному вопросу, все века мучающему людей после неудач: почему?
Федор как раз считал этот вопрос теперь уже не столь важным; его волновали даже не столько возможные аресты – в конце концов, они все всегда ходили под Богом, – а то, что русское движение теряло своих покровителей. Трухин прекрасно помнил, как после ареста Байдалакова никто не скрывал, что его и еще двадцать офицеров РОА из Дабендорфа намерены арестовать по обвинению в антинемецкой деятельности. Тогда их спас барон Фрейтаг-Лорингофен из второго отдела генштаба ОКХ. Прибежал сияющий Штрик и восторженным шепотом сообщил слова барона: «СД будет разочарован. Головы не покатятся. Но, – и тогда, опьяненный успехом, на слова эти Трухин не обратил внимания, – это последний раз, когда мне приходится вас спасать». А вот теперь Лорингофен застрелился.
Стрелялись и гибли в гестапо тысячами, Восточный фронт разваливался, во Франции наступали союзники…
Жиленков и Боярский[171] приходили почти каждую ночь, и они говорили, говорили, говорили, не в силах остановиться, как раненый, который не в силах не сдирать чешущуюся корку с раны.
– Я не удивлен масштабами кары, под джаггернаут которой попадают друзья и родственники. Все это мы видели и в России, – горячился, как всегда, Георгий, нервно запуская руку в холку своего роскошного сеттера, возимого с собой всюду, несмотря на запреты полиции и даже начальства повыше. – Но Англия, но Черчилль! Какая низость!
– Не понимаю твоего удивления – это вполне в британском духе: опубликовать имена заговорщиков, имевших с ними дело, еще тогда, когда они были на свободе.
– Боюсь, это уже не меняло дело, – вздохнул Боярский, старавшийся по большей части молчать. – Штрик рассказывал, что у графа Шуленбурга в сейфе нашли списки не только всех участников заговора, но и тех, кто собирался участвовать в дальнейшем устройстве и правительстве новой Германии.
Все замолчали в который раз, и Трухин знал, почему. Всех тайно угнетал один и тот же вопрос: а почему подобного не было у нас? Разумеется, все эти якобы заговоры у нас, по которым пропадали миллионы, вымысел, кому-то до зарезу нужный. Но где были настоящие заговорщики? Где были мы сами, черт возьми?..
Трухин долго смотрел, как звезды падают и падают в сырой лес, окружавший лагерь, и перед падением на мгновение вспыхивают нестерпимо ярким светом.
– Все мы знаем, что террор, убийство царей и тиранов – не решение, – тихо произнес он. – А все-таки любопытно, – он попытался хоть отчасти сменить тему, – что здешняя пресса всячески замалчивает размах заговора и пытается придать ему вид бунта крошечной кучки аристократов. У нас делалось совершенно наоборот. Забавно. – Мучительно захотелось закурить.
А звезды все падали.
Назавтра был молебен по убиенным. Разумеется, он был тайным, проходившим в домовой церкви Марии Васильчиковой[172], и никого из РОА там не было, но Трухина пригласила туда Верена.
– Теодор, я знаю, приняв мое приглашение, вы рискуете, – кладя свою невесомую руку ему на плечо, на новый витой погон, тихо проговорила она. – Но иначе – какие мы русские, правда?
Он просто поцеловал эту руку.
Они доехали до Берлина на электропоезде, а дальше решили добираться метро. Все поезда шли по расписанию.
– Значит, некоторое время обошлось без налетов. Знаете, меня до сих пор поражает, с какой быстротой берлинцы восстанавливают вокзалы, рельсы, дороги. Такое впечатление, что они не ломаются, а делаются только более крепкими, терпеливыми и стойкими.
– И именно тогда, когда немецкому народу стали мстить за Гитлера. Интересно, а как было у нас? – Трухин знал, что не получит ответа, и сам презирал себя, что в последнее время все чаще возвращается к проклятому вопросу: а как там у нас? Это было бессмысленно, унизительно, мешало работе, но избавиться от вопроса он не мог.
Маленькая церковь была полна народу, и Трухин с удивлением обнаружил, что еще может чувствовать, казалось, давно забытое умственное и психическое возбуждение, очутившись среди хорошо одетых женщин и мужчин своего круга. Он восхищенно и, не скрывая этого своего восхищения, смотрел на красавицу Мисси с ее удивительными миндалевидными глазами, на служившего батюшку, с лица которого даже полтора столетия не смогли убрать отчетливые следы итальянской крови предков, на Верену, склонившую голову и выглядевшую настоящей русской Психеей. Пахло дорогими духами, бриолином, породой. И острая тоска по своим расстрелянным братьям, по русским мальчикам из Дабендорфа, у которых нет будущего, ожгла Трухина до физической боли, и он постарался полностью погрузиться в молитву.