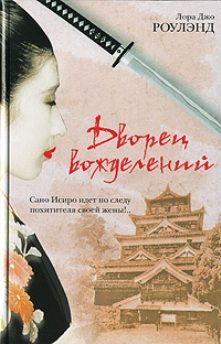Алексей Иванов - Сердце Пармы
«Железное кольцо мне с ноги на шею переехало...» – подумал Михаил. Он вспоминал о словах великого князя. «Ни к чему мне благодарность потомков, – думал он. – За добро свои, кто рядом, должны кланяться...»
Принять присягу пермяка Иван Васильевич пожелал без шума, без толпы – в Благовещенском соборе, своей домовой церкви. Михаил ждал под дождем, на гульбище, пока великий князь закончит утреннее омовение и явится в храм.
Народу и вправду собралось немного: государево семейство, несколько князей и бояр, дьяки, воеводы. Службу вел сам митрополит Филипп. В храме горели пудовые свечи, огни сияли на лакированной резьбе иконостаса, на зерни шандалов, на чеканке окладов, на позолоте икон и риз. Пахло ладаном. Служба была величественна и благолепна, но Михаил почти ничего не слышал. Тоскливо, вопрошающе глядел он на огромные иконы Деисуса. Лики Феофана взирали страстно, требовательно: внемли божьей каре! Печально и раздумчиво, поверх голов, смотрели праздники Прохора-с-Городца. Только рублевские образа лучились тихой, умиротворяющей радостью, затмить которую не могли ни гневные тучи, ни горестные размышления.
«Великий князь Московский и прочая и прочая... – повторял про себя новый титул Ивана IV Михаил. – ...Князь Пермский и Югорский... Югру-то ему кто подарил?»
К лицу сунулось массивное золотое распятие, и Михаил приложился к нему губами, закрепляя присягу. Золото обожгло, как перестывшее железо.
Последнюю ночь перед Чердынью Михаил ночевал в брошенной пермяцкой деревне на Русском Воже. Десяток керку притулились под ногами высокого соснового бора. Михаил не боялся тьмы, не боялся мертвецов, которые полночью возвращаются в свое жилье, без иттармы неприкаянные, не боялся духов пармы, которую он отдал московитам.
Он проснулся от снежинок, которые сеялись сквозь белесо светившиеся щели меж заиндевевших бревен: за стенами мела первая метель больших холодов. Михаил шагал дальше, к Чердыни, по пустой белой дороге, над которой громоздились сизые узорные ельники. В лощине дорогу черной стрелой пересек ручей. Михаил присел напиться парящей ледяной воды родины. Все замерзло: леса, города, реки, – и человек замерзал ночью без огня, а вот не замерзал лесной кипун, и без того студеный...
С опушки, с выпасов открылась занесенная снегопадом Чердынь на холмах над Колвой. У Михаила заболела душа. Три уцелевшие башенки острога стояли, словно три царевны на острове из давней сказки. Михаил шел дальше по дороге, которая вела к воротам Спасской башни. Следов на дороге не было.
В одной из башен кто-то жил. Из окошка торчала долбленая труба дымохода пермяцкой печки-чувала. Из трубы лоскутьями на ветру срывался легкий дымок. Михаил поднялся на вал и прошел сквозь башню, мимо сорванных Спасских ворот – будто бы стены крепости, незримые, стояли перед ним по-прежнему.
У входа в жилую башню на чурбаке сидел без шапки Калина и топором щепил лучину из полена.
– Здравствуй, князь, – весело сказал он.
– Я не князь, – ответил Михаил.
глава 26. Горе княжения
Этой весной княжичу Матвею исполнилось двенадцать лет, и отныне он решил жить своим умом. Летом по Колве, как паводковая вода, докатилась до Дия страшная весть о разгроме пермяков под Искором. Матвей случайно подслушал, как дийский шаман нашептывал в керку старшине: почто нам княжьи дети? Отец в полоне, мать-ведьма сбежала... не навлечь бы на Дий беды от московитов... Ночью Матвей забрал с берега чью-то лодку и в одиночестве уплыл в Покчу, в стан князя Федора Пестрого.
Матвей жалел мать, любил ее страстно и зло, стеснялся своей любви, дерзил матери, но кидался на всякого, кто называл ее ведьмой и ламией. Рослый и крепкий, гневливый, в бешенстве по-матерински дичавший, он кулаками, камнями и палками разбивал обидчикам лица, ломал пальцы, прошибал головы. Мальчишки-ровня и отроки постарше Матвея боялись и ненавидели. А с отцом у Матвея любви не получилось. Между ними всегда стояла незримая стена отчуждения, тонким ледком затянувшая глаза князя.
В Искоре Матвей Пестрого не застал. Князь ушел в Покчу, объявленную им новой столицей Пермской земли. А Покчи Матвей не узнал. Куда-то делась, словно провалилась под землю, подобно городищам Чуди Белоглазой, ветхая крепостица князя Сойгата. На ее месте стоял русский острог с частоколами на валах, с приземистыми островерхими башнями, с новыми избами за тыном. Приглядевшись, Матвей понял, откуда все это взялось: и валы были старые, лишь подсыпанные поверху; и новые светлые бревна заплотов перемежались старыми серыми кольями; и на башенных венцах темнели зарубки от тех времен, когда эти венцы были стенами покчинских керку. Вместо обширного покчинского посада вокруг русского острога раскинулся горелый пустырь с головнями и ямами. Только через маленькую Кемзелку перекинули на сваях новый мост.
Княжич прошел прямо к дому Пестрого, обеими руками яростно оттолкнул с дороги стражника, поднялся в горницу. Пестрый дремал на лавке, укрывшись овчиной. Он привстал и хмуро поглядел на мальчишку.
– Ты кто? – спросил он.
– Князь.
Пестрый сразу все понял.
– Коли князь, значит, воин. А коли воин, живи в гриднице, – сказал он и повалился обратно.
Матвей стал жить в гриднице, заняв лучшее место, место сотника – у чувала. Его не решились прогнать.
В Покче стояла новая пермская дружина. Ратники – и молодые парни, и дюжие мужики, и почти старики с лысиной под шеломом – попробовали приручить нелюдимого княжича, сделать его кутенком для веселья, мальчиком на побегушках или, оказывая уважение, ратным отроком, – ничего не вышло.
Однажды угрюмый мужик, которого все побаивались, вологодский десятник Никита Бархат, вернувшись из караула злой и промокший, сел на свои нары, стащил сырые сапоги и швырнул их Матвею: просуши. Княжич пнул сапоги обратно.
– Ну, щ-щенок, – сказал Бархат, – отцу рога отшибли и тебе...
Он не успел договорить – Матвей перелетел гридницу и сразу ударил Бархата в зубы. Никите на плечи навалился сзади молодой ратник Вольга – чтобы Бархат не выдернул меч.
– Жди, и тебя на цепь посадят, – стряхивая Вольгу и вытирая кровь с усов, сказал Матвею Бархат.
Другой раз за общим столом, пока вечеряли, парни затеяли разговор про ведьм.
– А брешут, что и пермская княгиня... – начал было один.
Вольга перехватил руку Матвея, рванувшуюся к ножу.
– Думай, дура, чего говоришь, – в повисшем молчании тихо сказал Вольга. – Кончай, мужики, мальца травить. Вас бы на его место... А ты, княжич, не больно-то в топоры бросайся. Мы здесь все равны.
Был Вольга молод, но глаза – старые-старые. В гриднице Вольгу уважали.
По первому снегу к Покче приехали афкульские татары с новым шибаном Мурадом. Но Пестрый Мурада не принял, и татары остались ждать Михаила. Едва услышав о татарах, Матвей пошел искать их табор.
Десяток войлочных юрт был обнесен колышками с красным шнурком. Табор казался пустым: сам шибан со слугами спал после трапезы, жены и рабыни чистили казаны на реке, рабы-мужчины отправились за дровами.
Матвей перешагнул алый шнурок и пошел между юрт. Вдруг на его пути оказалась девчонка, словно выскочившая у него из-под ног.
– Ты зачем пришел? – спросила она. – Сюда нельзя!
– Это моя земля, – хмуро ответил Матвей.
– А ты кто?
– Князь.
Девчонка с сомнением оглядела Матвея. Она была старше его года на два, русская, но волосы ее были заплетены в мелкие татарские косички. На девчонке мешком висел большой, не по росту, расшитый и богатый халат.
– Князья не такие, – сказала девчонка.
– А какие?
– Князь на коне, в кольчуге, в шапке железной, на боку меч, глаза как молнии. Усы и борода – во! – девчонка широко развела руки.
Матвей усмехнулся портрету отца.
– Я сама видела князя, правда!
– А ты кто?
– Я жена шибана.
– Врешь.
– Младшая жена... но самая любимая, – поправилась девчонка.
– У татарского шибана русская жена?
– У него всякие жены! И персиянки, и бухарские, и... всякие!
– И он везде их за собой таскает?
– Везде.
– А как тебя звать?
– Маша, – девчонка покраснела.
Матвей развернулся и пошел прочь.
– Постой! – закричала Маша. – Ты еще придешь?
– Приеду, – буркнул Матвей.
– Приезжать с подарками надо!..
– С какими подарками? – удивился Матвей, оборачиваясь.
Маша плясала на месте – замерзли босые ноги.
– Шибану саблю надо подарить, или седло, а женам его – ленты, или бусы, или платья, платки, или сережки в уши, или колечки, можно просто монету золотую...
– Обойдетесь, – ответил Матвей, но Маша не расслышала его и крикнула вслед:
– А лучший подарок дарят любимой жене!..
Откуда ему взять эти подарки? У него ничего нет. Матвей решил больше не ходить к татарам.
Князь Михаил поселился в башне сгоревшего острога вместе с храмоделом Калиной. Эта весть сдавила злобой сердце Матвея. «Лучше бы отец пропал в дороге, или был казнен в Москве, или погиб на Искоре... – думал Матвей. – Все лучше, чем возвращаться сюда побежденным...» Княжич не пошел в Чердынь, а ждал отца в Покче, как и вся дружина.