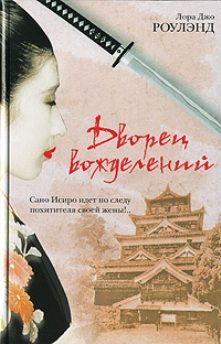Алексей Иванов - Сердце Пармы
Толпа расходилась, телеги отъехали, и Михаил увидел Исура с Бурмотом. Их посадили на колья. Колья торчали меж растопыренных голых ног, и по ним текла кровь. Бурмот был мертв: его проткнули косо и порвали сердце. Он обвис на колу, уронил голову. Исур был жив и медленно извивался, как раздавленная гусеница, дергался, скреб ногами землю, катал по плечам голову с окровавленным ртом – он откусил себе язык. Люди уходили прочь от казненных так, словно ничего не случилось; они пересмеивались, поправляли шапки. Маленькая дворовая собачка стояла напротив Бурмота, открыв улыбающуюся пасть, и крутила хвостом.
Михаил сполз по стене на землю. Зырян все смотрел, сипло дыша. Михаилу хотелось забиться под кирпичи, закопать себя. Как здесь все это оказалось чудовищно просто: переодели, вывели, посадили на кол, ушли... Как все это изумительно-внезапно и буднично... Неужели Чердынь, Афкуль, Прокудливая Береза, льды Лозьвы и боевые лоси в Пельше, огонь Полюда, Кайская полночь и битва на Искорке были в жизни этих людей? Для чего? Для гибели на этих окровавленных кольях? Для этой позорной казни, неправой, скорой и зверино-безразличной?..
Венец заявился на следующий день. Оберегаемый стражниками, он подошел к Зыряну и Мичкину, минуя князя.
– Видели, небось, как Иван Васильевич казнил главных татей: Исурку и Бурмотку? – спросил он. – На вас же великий князь обиды не держит. Пока. Велено вам передать, и сроку на раздумья дается день, что великий князь дозволяет вам отслужить ему свою вину воеводами на дальних заставах. Храбрость вашу нам Федор Стародубский описал. Ну а ежели не захотите воеводами пойти, то пара кольев в Москве всегда найдется.
Далеко за полночь Михаил очнулся от треска полотна. Мичкин, сидя, отрывал от своей рубахи полосы. Связав и скрутив их, он продел жгут в кольцо, к которому крепилась цепь, и сладил петлю.
– Стой!.. – дернулся к Мичкину Михаил, но наткнулся на руку Зыряна.
– Не лезь, князь, – сказал Зырян. – Это ведь его выбор...
Мичкин слышал их голоса, звон цепей, но не обернулся. Он торопливо просунул голову в петлю и, встав на колени, повис в ней всей тяжестью тела. Они молча смотрели на последние судороги пермяка. А на рассвете Зырян заговорил с Михаилом.
– Прости меня, князь, если поймешь, – сказал он. – В Искорке я разговаривал с одним мальчишкой, московитом, который отбился от своих и оказался у нас. И так мне было легко указать ему дорогу... В общем, решил я предаться московитам...
Зырян привалился спиной к стене, словно отдыхал после тяжелой борьбы.
– Страшно и стыдно погибнуть на колу... И рука на себя не поднимается... Нету во мне той былой силы, с которой я когда-то пошел на вогулов вместе с твоим братом и вором Васькой Скрябой... Не надо было мне тогда идти... Потерял я тогда родину, а больше уж, видать, не найти. Верил: станет мне новой родиной чердынская земля. Семь лет прослужил тебе честно, а на земле не удержался... Да... Если уж не родной земле, то без разницы, кому служить – Чердыни ли, Москве ли... Ты прости меня князь...
Венец пришел уже к вечеру, пьяный. Зыряна расковали, повели на волю. Венец приблизился к Мичкину, все еще стоящему в петле на коленях, глянул, шарахнулся в сторону и вдруг в досаде выхватил плеть и стегнул мертвеца.
– Ушел, сука! – рявкнул он.
Князь Михаил остался в подвале один.
Из окошка подземелья он видел черное небо Москвы. Никому, похоже, он не был нужен, никто им не интересовался, не приходил, кроме служек с объедками барского стола. Михаил целыми днями стоял у окошка, глядя на двор усадьбы. За ее оградой плотники разбирали Успенский собор – старый, деревянный, много раз горевший. На его месте великий князь хотел построить новый храм, каменный, во славу своего скорого брака. Михаил слышал разговоры дворовых и стражников. Ромейская царевна Софья, дочь Фомы Палеолога, ехала в Москву с кардиналом Антонием и толпой голодных греков. Ехала не спеша, все лето. Говорят, царевна одевалась страсть как пышно, любила затейливую роскошь и важность во всем, была умна, лицом ангельски прекрасна и толста, как корова.
Отсияла и осыпалась осень, зарядили дожди. Михаила ночами стала прохватывать стужа, от кандалов леденило ногу, и она пухла. Михаил простыл и гулко кашлял. «Если не вспомнят обо мне, к снегу помру», – равнодушно думал он. Все, что когда-то волновало его, заботило, беспокоило, отдалилось, казалось ненастоящим, как отражение в темной и неподвижной осенней воде.
Тогда великий князь и решил довести до конца дело с пермяком. На подворье въехал возок коробом с рындами на запятках. Холопы открыли дверку и на себе перетащили через лужу великого князя. В возке остался дожидаться монах в блестящей шелковой рясе – любимец великого князя иконописец Дионисий. Значит, Иван Васильевич не собирался задерживаться в подвале надолго.
Ему поставили резную скамеечку, накрытую ковром, он сел и велел слугам и рындам выйти. Одет Иван Васильевич был по-домашнему: в мягких сапожках, в татарских шароварах и татарском халате, засаленном и закапанном воском; на голове простенький колпачок, на плечах бобровая шуба, испачканная по полам в грязи. Великий князь долго и пристально разглядывал Михаила, молча стоявшего у стены. Михаил оброс – спутанные волосы свисали до плеч, нечесаная борода закрыла гайтан; лицо бледное, землистое; глаза запавшие, мутные; одежда рваная и сопревшая.
– Ну что, Ермолаич, – усмехнулся великий князь, – покумекаем, как нам дальше жить?
Михаил опустил голову.
– Сразу скажу, что долгих бесед не люблю. Или ты соглашаешься и все исполняешь, как велю, или голову снимаешь. Топоры у меня готовы, а вина всегда найдется.
– Какая же за мной вина? – уставившись на гнилую солому под стеной, спросил Михаил. – Дьяку Венцу поверил?
– Венца еще на Ильин день в ров выбросили. Отдельно брюхо ненасытное, отдельно башку пустую, отдельно руку вороватую. А вина за тобой одна: что княжишь со мной в те же годы.
Михаил тоже разглядывал великого князя: вислый красный нос и сочные губы сладострастника, холеная бородка висит острым клинышком и загибается на конце крючком, и волчьи глаза – желтые, спокойные, беспощадные.
– Чего же ты хочешь? – спросил Михаил.
– Чего хочу?.. Я скажу тебе, а ты запомни на всю жизнь. Господь наш избрал нашу землю и наш народ, отдав продажный Рим католикам, а спесивый город Константина – туркам. Во всем мире мы теперь главная твердыня праведной веры. И потому Русь должна быть великой державой. Для себя мне уже ничего не надо – и так всего вдосталь. Пришло время великому князю и о своем государстве печься. А нам для величия нужно единство. Хочу я из единой Руси такую глыбу сделать, чтобы по всем нашим землям от Смоленска до Чердыни не было чердынцев, тверяков, московитов, не было чудинов, литвинов, русинов, – а все были русские! Чтобы коли Москве стали враги грозить – у чердынцев бы сердце захолонуло, а коли на Чердынь бы напали – московит сна лишился. Понял, князь?
– Мысль твоя светлая, да руки твои одна в крови, другая в чужом кармане, – сказал Михаил.
– Когда и кровь, и карман моими станут, тогда я руки и приструню, – хищно улыбнулся Иван Васильевич. – Ну что, будешь мне добром крест целовать?
Михаил подумал.
– Буду, – равнодушно согласился он.
В тот же день Михаила расковали и перевели в палаты. Поначалу он отмывался, отсыпался, отъедался, грелся. Потом пришел со счетными книгами под мышкой государев дьяк Иван Охлопьев, сели решать княжеские дела. Великий князь оказался не только лют и честолюбив, но и жаден. Ясака с пермяков скостить он и не подумал, а новых повинностей положил столько, что и не продохнуть. Мало было ему ясачной пушнины – повелел весь торг с югрой и самоедами вести через новую таможенную избу в Чердыни и всю рухлядь – в Москву, а купеческий размах ужал до мышиного хвоста. А за ослушание – разор, отсечение рук, яма с цепью, ссылка, плаха. Отнял великий князь и соляной промысел, задумав отделить Соликамский стан, где сядет воевода с дьяками, которые сочтут и колодцы, и варницы, пошлину же будут отсылать на Русь, минуя Чердынь.
Всех крестьян, доныне вольных, великий князь обязал перевести в черносошные на оброк в свою пользу, Чердынскому князю дозволено было иметь лишь барщину.
– Чем же мне княжение кормить? – хмуро спросил Михаил.
Охлопьев змеино улыбнулся.
– Волен, чем хочешь.
– Земля у нас не щедрая. Новое тягло пермякам не поднять будет. Решил поссорить меня с моим народом?
Но великий князь и об этом подумал. Местным князьцам запрещено стало иметь свои дружины, а точнее, приказано собирать их и отправлять на Русь служить на порубежье. Тут князьцы поневоле задумаются, что им выгоднее: иметь войско или не иметь. Самому же Чердынскому князю было предписано набрать новую дружину, втрое большую прежней, и русскую к тому же. Дела делать вкупе с Соликамским воеводой, а не порознь, и платить землей: пусть множится под склонами северных гор русский пахотный люд. На вогулов самому не ходить, брать себе воевод от Москвы. Татар изгнать.