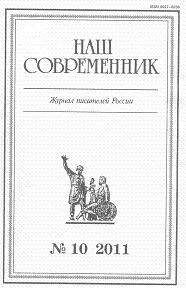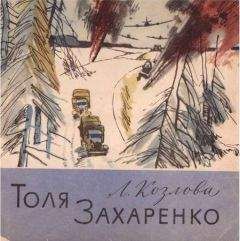Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
—
Грабят!
Здесь уж приходилось жилы рвать, второй-то раз не шибко хотелось бича отведывать. Держу скорость — аллюр четыре креста! — в ушах благовестит. Кольта развалится в санках как барин и частушки поет:
Ой, дед, ты мой дед,
Ты наделал мне бед:
Захотелося морковки —
В огороде такой нет…
Подкатит к воротам, вожжи натянет:
—
Тпр-р-ру…
Из санок меня выпряжет, березовым голиком старательно обметет — и в поводу поить повел на прорубь. К проруби я завсегда на четвереньках ступала — для рук мне специально из шубинок накопытники сшил. Дрыгну, озорства ради, ногой, вроде лягнуть норовлю, дернет за повод:
—
Ну ты, шалая… Всё бы играла!
Наклонюсь к проруби — вроде пью, он гладит меня и свистит протяжно: пей вволюшку, Гнедая…
Напоит, узду снимет, ласково шлепнет по крупу:
—
Гуляй!
Кого тут «гуляй»? Бегу ужин гоношить, по хозяйству убираться.
Натокали меня Мельниковы марьин корень парить, да настой Кольше в еду подливать. И правда, к весне мужу заметно полегчало. Меньше в санки запрягать стал…
А летом… конюшню построил и овес собрался сеять…
Не выдержала. Ударилась в бега на бодайбинские прииски. В шахту мантулить пошла.
Приисковые товарки меня поедом ели:
—
От инвалида войны убежала — грех!
А как рассказала, что ребятеночка скинула из-за распроклятого «аллюра», перекрестились и замолчали.
Леонтий Мельников все-таки выхлопотал Кольше через военкомат путевку. Отправили мужа на лечение. Осколок академики из головы кое-как магнитом извлекли. Поправился мужик.
Разыскал меня на Васильевском прииске, остался золото мыть. До сих пор живем душа в душу. Сына и дочь вырастили.
Недавно Мельниковы гостили. Сидим за столом под березой, Леонтий в небо посмотрел и говорит:
—
Пора на передовую бойцам кашу везти…
Кольша хохочет, заливается.
ЗМЕЙКА
С невесткой Харитиной стряслось. Ага… Вредная была, боже упаси! Утром на зорьке турнула ее по воду. Несет она от колодца воду, навстречу старичок с посошком шоркат. Шорк-шорк обутками. Незнакомый. Такого старичка в деревне никогда я не видела.
Поравнялся с Харитиной и попросил:
—
Птица-молодица, дай воды напитьца.
Невестка в ответ нагрубила:
—
Много таких шлятца…
—
Попомнишь, птица-молодица, выплюнешь змейку. — Старичок погрозился ей. Ударил посошком оземь, крутнулся на пятке, как веретено и исчез.
Невестка от страху ведра из рук выронила. Кого ее тут материть, у самой поджилки трясутца. Ага… Побоялись-побоялись день-два и забыли. Дело к покосу. Не до старичка.
На лугу с Харитиной сено ворошим. Жарко, трава споро сохнет. Мужики хлестко литовят.
В полдень мой дед литовку обтер травой, воткнул чернем в землю.
—
Обедать!
Поели и вздремнули в балагане.
Слышу, дед шепотком будит:
—
Мотри-ка, Стася, мотри-ка, Харитине змея в рот ползет…
Батюшки-светы! Хотела было ее выдернуть, да кого там!
Только хвост во рту мелькнул. Прямо околели с дедом от страху. Счас змея в брюхе ожалит, помрет невестка. Хоть и таскала меня по праздникам за волосья, а жалко — работяща, боева. Где еще таку дуру найдешь?
Ага… Чё делать? Герасиму, сыну, сказать? Он же — огонь! Мигом жене брюхо распластат охотничьим ножом, змею выбросит, а рану лыком зашьет. Хорошо бы! Но… Вдруг микробы в рану попадут, зараженье пойдет, загнетца невестка, а сына в тюрьме живьем сгноят за таку операцию. Брат-то у Харитины в районной милиции работат.
Растерялись мы с дедом, сидим ни живы, ни мертвы, ждем, чё дальше будет. Ага…
Проснулась Харитина, вылезла вот таким макаром из балагана, схватилась за брюхо, давай по траве кататьца:
—
Ой-ой, ой-ой…
Герасим пробудился, вскочил как ошпаренный. Недолго думая, Харитину в охапку — и поволок в деревню к фельдшеру. Ташшит, слезами обливатца. Мы с дедом в пристяжке бежим, ревем. Ага… Вдруг вижу, тот старичок с посошком встречь шоркат. Остановил нас, поинтересовался:
—
Чо приключилось?
Говорю: так и так.
Старичок рассмеялся:
—
Эта змейка с рожденья в брюхе у птицы-молодицы живет. Видать, на солнышко погретьца выползала. Полезла обратно — нутро-то и ожгла девке. — Командует Герасиму: — Клади птицу-молодицу на землю, дуй за конем, веревку-волосянку прихвати.
А невестка по траве кататца:
—
Ой-ой, ой-ой…
Ага… Прискакал сын на коне. Старичок обвязал коня за выю волосянкой, дает Герасиму:
—
Держи крепко!
Сам коня посошком понужнул, давай по кругу гонять, давай гонять, пока с коня пена не поплыла.
—
Тпр-р-ру…
Сорвал с моего деда картуз, пену собрал.
—
Пей, — поднес Харитине.
Та пьет, сама синя вся. Пила, пила.
—
Не могу, — говорит, — больше…
—
Пей!
Выпила. Ага. Старичок отпустил коня, а волосянку вокруг Харитины кольцом изладил.
Харитину рвать стало. Старичок посошком огрел ее по спине, змея-то и выпала изо рта. Выпала — и уползать. Куда там уползешь! Волосяна веревка кольцом лежит. Старичок щелк змею посошком, та в пыль рассыпалась.
—
Ну чё, птица-молодица, — спрашиват старичок, — выплюнула змейку?
Харитина хлоп-хлоп шарами, молчит. Стыдно роже-то, воды старичку пожалела.
—
Ладно, трудовые люди, идите сено стогуйте, успевайте, пока вёдро. Завтра задожжит. — сказал так старичок, ударил оземь посошком, крутнулся на пятке, как веретено и исчез.
Насмотрелась я всяких колдунов на своем веку, а такого доброго первый раз встретила. Невестка перестала меня по праздникам за волосья таскать. Ага…
ПОНЯТЬЕ
Феодору-то?! Знаю ее, выдру, как облупленную. По соседству живет. Слово поперек не скажи — оплюет, обзовет всяко разно. Богомольная, а без матерка слова не молвит. Мужичонку своего затуркала. Ласковый, как телок: ладошку подставь — оближет. Начнет, бывало, Ефим по хозяйству хлопотать, Феодора тут как тут: то дрова крупно наколол, то гвоздь косо забил… Подбоченится, выдра, и срамит заботника на весь божий свет.
Ну да… В сеностав и случилось. Ефим отбивает косу на бабке, сено собрался косить. Феодора подошла. Я как раз сквозь тын подсматривала. Подошла Феодора и давай Ефима позорить:
—
Гнилая веревка, инструмент портишь… Я тебе!
Рвет мужичонке уши, матами захлебывается.
Пыхтел Ефим, пыхтел — взорвался и отбуцкал выдру.
Феодора сгоряча возьми и накатай заявление Бабаю. Кто Бабай-то? Наш участковый милиционер. Им еще неслухов родители пугают. Страховитый! Арестовал Ефима и увел с поднятыми руками в колхозное овощехранилище. Вскоре в клубе суд состоялся. Присобачили мужичонке срок за то, что Феодоре фонарей наставил.
Подумаешь, фонари! Что, я сама их не носила? Мой Филипп, фитиль этакий, нажрется, бывало, вино аж из ноздрей капает. Хм… Схватит топор и пошел за мной гоняться, деревенские улицы мерить. Вот те крест, никогдашеньки Бабаю не стучала! Пришел раз Бабай на «шумок», сам себе не рад был. Хоть обличье мое и было черней сковородки, но разглядела красноперого супостата, проводила ухватом, понятье дала… Я к чему говорю: муж да жена — одна сатана. А эта выдра, видно, себя в демократки записала.
Через две недели Ефим вернулся домой. Феодора в подполье кирпичные стены подбеливала. Он — хлоп западню, сверху кадку с водой надвинул.