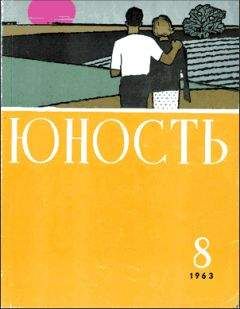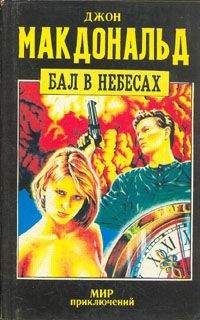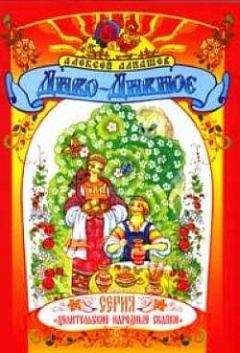Анатолий Виноградов - Повесть о братьях Тургеневых
Глава тридцатая
Держали совет, как быть и что принесет царствование Константина Павловича – польского наместника, самого неудачного из сыновей Павла I.
Маленькая немецкая почтовая станция, аккуратная, чисто прибранная; цветочные горшки в плетеных корзинках на высокой скамье перед самым окном. На столе окорок и яичница, кружки недопитого легкого пива; комната для знатных гостей. По этому тракту неоднократно стремительно проносились маршалы Наполеона; в этой комнате немецкие князья принимали французских шпионов; тяжеловесные бюргеры с толстыми бумажниками приезжали сюда потолковать со своими французскими агентами.
Николай Тургенев говорил:
– Я думаю, что начнется совершенный ужас. Константин – сумасшедший, хотя есть, конечно, и добрые задатки в этом странном человеке.
– Все-таки он привык управлять страной конституционной, – сказал Сергей.
Александр Иванович насупился. Николай перебил младшего брата:
– Эти свои детские мечты оставь! Ты прожил в Цареграде и ничего не знаешь. Польская конституция есть Александрова гипокризия. Для Европы Польша – страна с конституционным королем Александром Первым, а для деспотической России она просто царство, как царство Астраханское, царство Казанское – ни в чем нет отличия! Не знаю, чего ждать от России с Константином! Я не поеду! – сказал он с расстановкой, решительно. – А вам ехать надо!
– Да, я поеду, – сказал Александр Иванович, – дела у нас запутаны, хозяйство из рук вон; матушка стала стара и в дело не вникает. Не могу уезжать надолго. А Сергею, как опекун, приказываю ехать со мною.
Решили. Александр Иванович пошел в соседнюю комнату, вызвал начальника и спросил, когда обратная почта на Берлин. «Меньше чем через полчаса». – «Хорошо!»
Николай Тургенев, оставив Сергея в комнате, вышел к своему слуге дать распоряжение о разделении багажа. Возвращаясь, застал в комнате шум. Он видел ясно, как Сергей с блестящими, острыми глазами впился в цветочную банку и ударом кулака сковырнул ее на пол, потом отошел к окну как ни в чем не бывало. Николай остановился в дверях и стал смотреть. Сергей по-прежнему стоял у окна, слегка насвистывая, и был совершенно спокоен. Прошло пять минут, не более. Александр и Николай вошли в комнату.
– Как это случилось? – спросил Александр Иванович.
– Что это? – спросил Сергей и с совершенно искренним удивлением смотрел на разбитый цветочный горшок.
Николай покачал головой и, словно отгоняя навязчивую мысль, сказал:
– Это я уронил нечаянно.
Прощание было короткое. Николай обнял Сергея и молча протянул руку Александру Ивановичу.
– Разрешите мне, – сказал он, – в полном спокойствии провести остаток разрешенного мне отпуска. Мне очень не хочется заболевать снова.
Александр Иванович нахмурился и вышел из комнаты. Сергей последовал за ним, весело напевая: «Домой, домой, домой!»
Вечером четырнадцатого декабря 1825 года в Петербурге опустели улицы после дневной стрельбы. У Зимнего дворца горели костры. На улицах было тихо и безлюдно. Извозчики показывались редко. Одинокие пешеходы крались как тени и прятались за углы домов. Страшный день миновал. Еще трудно было подсчитать потери, но одна потеря была ясна: четырнадцатого декабря оказалась потерянной лучшая часть петербургской военной молодежи. Вместо Константина, прямого наследника Александра I, на престоле был Николай Павлович, исполнительный командир бригады, бесталанный, тупоголовый офицер, совершенно растерявшийся в этот день и сбежавший с площади, занятой декабристами, так как рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в него поленьями. Начались жуткие розыскные дни. Николай I с Левашовым в Зимнем дворце вели допросы. Арестованных было множество.
* * *Через две недели Николай I писал отрекшемуся брату:
"В том состоянии, в каком теперь моя голова и ум, я должен раз навсегда вас просить, дорогой и бесценный Константин, заранее извинить меня за бесконечную забывчивость и за всю беспорядочность того, что я вам пишу. Пишу вам, когда урываю секунду свободного времени, и то, что у меня на сердце; поэтому прошу милости и снисхождения за все; пожалейте бедного малого – вашего брата.
Ваш курьер 22 декабря/3 января прибыл вчера утром; Михаил был у меня, и вы можете себе представить, что заставило нас обоих почувствовать чтение вашего письма. Только бы мне быть достойным вас! Вы знаете, я всегда этого просил у провидения. Можете себе представить, что происходит во мне в этот момент.
Здесь все, слава богу, благополучно, наше дело тоже подвигается, насколько то возможно, успешно. Я получил донесение Чернышева и Витгенштейна, что Пестель ими арестован, равно как и кое-кто из других вожаков; а так как после здешнего происшествия я уже дал приказ об аресте последних и о присылке первого, то я и жду их каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м корпусах все благополучно; я не получал официального рапорта из 3-го корпуса и из второй армии, но меня уверяют, что там тоже все благополучно. Здесь я велел арестовать обер-прокурора Сената Краснокутского, отставного семеновского полковника, а Михаил Орлов, который был по моему распоряжению арестован в Москве, только что привезен ко мне. Я приказал написать Меттерниху, чтоб он распорядился арестовать и прислать Николая Тургенева – секретаря Государственного совета, путешествующего с двумя братьями в Италии. Остальные замешанные лица или уже взяты, или с часу на час будут арестованы.
Я счастлив, что предугадал ваше намерение дать возможно большую гласность делу; я думаю, что это и долг, и хорошая и мудрая политика. Счастлив я также, что оказался одного с вами мнения, что все арестованные в первый день, кроме Трубецкого, только застрельщики. Факты не выяснены, но подозрение падает на Мордвинова из Совета, поведение которого в эти печальные дни было примечательно, а также на двух сенаторов – Баранова и Муравьева-Апостола; но это пока только подозрения, которые выясняются помощью и документов и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках.
Посылаю вам показание полковника Комарова, который несомненно очень правдив и, кажется, человек прямой и действительно почтенный; показание его даст вам ясное понятие о всем ходе заговора во 2-й армии.
Здесь все благополучно. Я очень недоволен здешней полицией, которая ничего не делает, ничего не знает и ничего не понимает. Шульгин начинает пить, и я не думаю, чтобы он мог оставаться с пользою на этом посту; еще не знаю, кем его заменить.
... Посылаю вам еще список масонской ложи в Дубно, найденный у кого-то из умерших тут; быть может, эти бумаги и не имеют значения, но, пожалуй, лучше, чтобы вы знали имена этих личностей в настоящий момент. Посылаю также и польский перевод манифеста по поводу событий 14-го; думаю, что он у вас уже есть, но на всякий случай посылаю. Там вы найдете выражение чувств, которые одушевляют меня, и официальное провозглашение того образа действий, какого я предполагаю держаться в этом важном деле.
Я был очень счастлив, что мог сам исполнить поручение, касающееся Насакина и Мещерского; это поручения, которыми позволено гордиться и которые неохотно уступаются другим. Они приняли это со слезами благодарности и счастия.
По известиям, дошедшим до меня сегодня, оказывается, что во вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев – французов, швейцарцев и немцев. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну; я думаю предложить Совету министров восстановить тот порядок вещей, который существовал до последнего разрешения свободного въезда".
Новый царь, не довольствуясь этим, дополнительно извещал своего брата Константина в Варшаве о том, что он послал письмо к старику, королю саксонскому, с просьбой о выдаче всех троих Тургеневых.
* * *Моросил дождь. Дилижанс опрокинулся. В разбитые окна кареты засекали холодные струи. Окоченелые руки и посиневшие лица пассажиров говорили о ненастье. Николай Тургенев подъезжал к Парижу. Сырое и туманное, как никогда, утро встретило его там. С почтового двора «Восточного Мессажера» он пересел на извозчика и велел везти себя в «Луврскую гостиницу». В коляску, стоявшую неподалеку, грузили вещи и усаживали двух детей. Черноглазые, остролицые, смуглые дети напомнили Тургеневу Восток. И вдруг показались родители. Человек в высокой барашковой шапке, пестром халате, с длинной, иссиня-черной бородой стрельнул в него глазами. Две женщины, совершенно закутанные в пестрые шали, сели на передние места коляски, после того как чернобородый пассажир водворился первым. Это впечатление Азии в Париже кольнуло сердце Тургенева. Он сам не мог понять почему, но чувство смутной тревоги не дало ему ни минуты покоя. Расставание с братьями было странно коротким, и хотя он приучал себя к сдержанности и внезапным обрывам готового разрастись чувства, но в этот раз покоя в себе не находил.