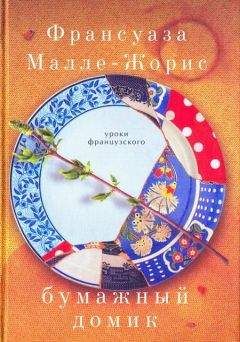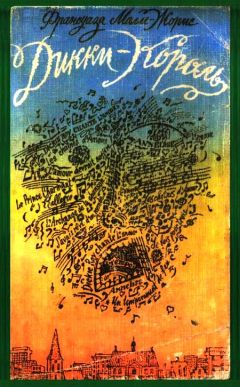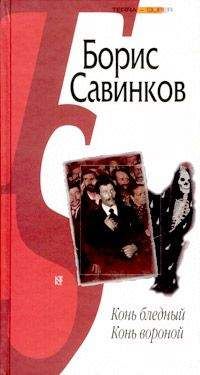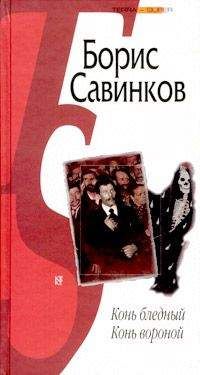Франсуаза Малле-Жорис - Три времени ночи
Жанна понимала, что подобные отношения развращали. Видимость добросердечия ее не обманывала. Благотворительность, доброта одних таила в себе страх, отвращение, желание откупиться как можно дешевле, как того требует усыпленная совесть; шутовство, сетования, попрошайничество, проявления благодарности других скрывали насмешку, спокойное презрение, ненависть, даже не ищущую утоления. «Хотите помои, получайте». Если где-то непритворное милосердие, признательность без подобострастия находили друг друга и сливались в едином порыве, Жанна ничего об этом не знала и никогда бы не узнала. Уже в двадцать лет ее сердце слишком омертвело, ожесточилось, чтобы подобное откровение могло ее спасти. Оно только прибавило бы ей страданий. И Жанна положила бы все силы, чтобы его отринуть. Лишь Божья благодать была способна внушить ей такое. Но и благодать, как не преминул бы с ученым видом заметить Жан Боден, человеку нужно согласиться принять в себя.
— Спрашиваете, чем я жила в Компьене? Милостыней.
— Неужели вас не тронула помощь этих добросердечных людей? Не испытали ли вы тогда желание начать достойную жизнь?
Тогда? Как раз тогда она и покинула Компьень, ушла в лес.
В лес! Неслыханно. В лес! Не было ли это уже своеобразным вызовом, первым шагом к бунту? Боден даже почти забыл о своем гневе, с такой силой снедало его вновь разгоревшееся любопытство. Единственная его страсть. Разве город, пусть и со всеми его несовершенствами, не является прообразом Града Божьего? Разве в городе, пусть только вчерне, не намечена иерархия, тот божественный порядок, который в конечном счете восторжествует? Не осознали ли это люди еще в древности, и, когда иудеи в своем высокомерии говорили: «небесный Иерусалим», не прозревали ли они, погрязшие в грехах, удивительный смысл земной жизни? Союз всех людей, иерархия различных видов труда, взаимная зависимость душ, договор, заключенный между гражданами и государством, с одной стороны, и христианами и церковью — с другой, — вот что такое город. Зубцы розовых стен в Умбрии, золотистые фасады тесно прижавшихся друг к другу домов во Фландрии; лучшие полотна наших живописцев дают почувствовать: мир — наш дом. И ученый, подобно живописцу, видит единое целое, как если бы переднюю стену отсекли и в каждой комнате человек в коричневой, синей или оранжевой одежде совершал необходимое действо. Даже нищий — это серое пятно — является составной частью единого целого, последним мазком, завершающим общую картину мира, придающим ей равновесие. А вы в лес!
— Это самое последнее дело — в лес, — сухо отметил Боден.
— А что мне оставалось? — кротко прошептала Жанна, блуждая в своих воспоминаниях.
— Мало ли что! Да все что угодно. Вы не одна такая… Вы пытаетесь убедить меня, что прожили всю жизнь, ничего не решая сами, не имея выбора. Неужели вы не видите, что это бессмыслица? Даже умирающая на больничной койке в страданиях своих вольна выбирать между добром и злом. Нет, Жанна, вы сами прекрасно понимаете: ваше бегство из Компьеня послужило началом искушения, которому вы поддались. Живя в лесу словно волк-одиночка, ненавидя себе подобных, вы неминуемо должны были призвать на помощь дьявола.
В лесу она прибилась к шайке разбойников. Тогда-то у нее и появилась мысль, безрассудная, может статься, но отвечающая глубокой потребности всего ее существа, мысль родить ребенка, сына. Заиметь сына значило переделать мир, обрести безумную надежду, мечту, это был бы уже поступок. Она решила подобрать себе человека здорового и сильного, который был бы для нее никем. Вряд ли она любила его, но когда после страшных картин там, у пруда, после огня и дыма, после криков на скорую руку задушенных жертв, после зверских лиц разбойников, красных от вина или холода, после бегства сломя голову от погонь, нечаянных попоек, долгих томительных дней, когда было нечего есть, наступала минута, когда она, прикрыв глаза, гладила его волосы, а он шепотом делился с ней мечтой о городе, где царит справедливость, где все по-другому, городе, который далеко, но все же существует, Жанна предчувствовала и надеялась, что сын превзойдет ее, объяснит то, чего она лишь смутно жаждала; сын уйдет в такую даль, что Жанна не сможет последовать за ним, но разве это не мечта всех матерей? Ее сын уже существовал для нее в те минуты, когда она гладила волосы неподвижно лежащего рядом Жака. Не о дьяволе были ее мысли, а о сыне. Он отомстит за нее, но не просто отомстит. В мечтах ей виделось, как он скачет на одной из лошадей их шайки через лес к освещенной, заметной издалека дороге, по которой разбойники убегали от врагов и где устраивали засады. Она бы никогда не узнала, что с ним стало, но вот однажды каким-то чудесным образом сердце подскажет Жанне, что ее сын достиг (неважно как) города. Тогда Жанне останется лишь умереть. Она мечтала и о той тихой, спокойной смерти. Единственное время в ее жизни, когда она предавалась мечтам. Может, в эти недели она была близка к спасению? Может, родив сына, она стала бы просто матерью, каких много, и Жак был бы просто человеком, добывающим хлеб войной? Женщины, ждущие ребенка, испокон веков похожи друг на друга. Ее сын не был бы демоном. Но родилась Мариетта, и вот — «девочку надо утопить». Жанна, чтобы спасти ребенка, ушла от них, как сделала бы любая мать. Но надежда покинула ее. Женщина, породившая женщину, она уже не верила, что ей удастся спасти себя и малышку.
— Я вернулась в город…
— Да, вернулась после своего таинственного пребывания в лесу. Но что вы там делали? Встречались с другими женщинами, устраивали сборища? Может, вы вернулись в город уже в новом обличье? Вспомнили уроки матери?
Она молчала, собираясь с силами. На опушке леса с ребенком на руках Жанна молча собиралась с силами, покидая пропитанный кровью, вином, холодом, туманом мир и возвращаясь в другой, чтобы сохранить жизнь дочери. Снова ей предстояла борьба, и борьба безнадежная, предстояло жить, уповая на смерть, обрекая на страдания, жалкую гибель и свою дочь. К чему все это? Стоит ли овчинка выделки? На мгновение Жанна поддалась усталости, ее охватило желание улечься на краю оврага и подохнуть прямо тут от холода, голода… Долго бы ждать не пришлось, особенно ребенку. Так почти безмятежно, отказавшись от жизни, принимала смерть Мари. Отказаться от жизни. Жанна тоже размышляла об этом в тюрьме, размышляла о людях, которые столь хладнокровно подготавливали ее гибель. Признаться во всем, больше того, наговорить на себя разных ужасов, нагородить басен, нелепиц, непристойных историй, до которых они такие же охотники, как и компьеньская голытьба. «Вы этого хотели, вот вам». А потом умереть, умереть примиренной. Так умирали многие мужчины, многие женщины. Наполовину поддавшись на уговоры, смирившись со своей долей, они облегчали душу, почти столь же довольные, как и их обвинители. Про них говорили, будто они раскаялись. Таких отправляли к палачу со слезами на глазах, утешали, обещали за них молиться. Кругом царило теплое дружеское участие. Это их вонючее теплое участие. Жанна видела, как сжигали мать, видела умиротворенное лицо священника, взволнованную толпу, она видела слезы, настоящие крупные слезы, так плачут на похоронах, на свадьбах… Слезы добродетели. Почему бы и ей не сделать то же самое? Ведь все зависело только от нее. Никаких пыток, быстрая смерть, а к чему она стремилась, если не к смерти? Продолжать бороться? Надо ли?
Да, надо. Пусть они меня пытают, но пусть и сами помучаются. Пусть задают свои вопросы, ломают головы, придумывая новые, еще более гнусные и отвратительные, пусть образы, созданные в их воображении, преследуют их потом всю жизнь. Им придется самим заделаться колдунами, чтобы попытаться понять, узнать и затем убедиться, что, раз вступив на это поприще, они никогда уже не вырвутся, и ничто им не поможет, ни их богатства: зеленые луга, стада, дома, — ни глубокий сон, ни краснобайство. Им придется окунуться в пустоту внутри них самих, которую ничем нельзя превозмочь, и ничего для них больше не будет: ни домов, ни прекрасных женских лиц, ни благости псалмов, ни вечеров, навевающих покой, подобно шуму фонтана, — все канет в небытие как полузабытое сновидение. Да, Жак, это и есть справедливость, равенство, о которых ты мечтал. Все будут одинаково завязаны, все погрязнут во зле, и ничто: ни богатство, ни почести, ни телесное здоровье — ничто уже не будет иметь значения, ничто не будет существовать. Царство духа всех между собой уравнивает, всех и навсегда.
Да, покинув лес, она стала колдуньей (и ни тебе договора с дьяволом, ни дыма, ни раздвоенных копыт). И ее становление продолжалось (так как жизнь во зле, подобно жизни во Христе, требует постоянного обновления, как всякая жизнь в духе) даже в ту минуту, когда, напрягая все силы, она направляла их против сидящего перед ней человека, осторожно продвигаясь вперед, осторожно нащупывая слабое место, куда вонзить сверкающий меч.