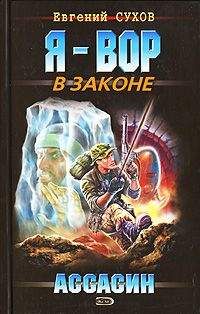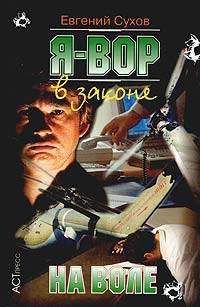Евгений Сухов - Госпожа трех гаремов
— Можете ступать, ворота отворены. И не позабудьте главное: вы обещали служить честно, ежели Шах-Али со стола казанского уберем.
Чура Нарыков едва наклонил красивую, тронутую легкой сединой голову, прощаясь с князем Микулинским, толмача не удостоил даже взглядом.
— Татарин-то гордец, — хмыкнул обиженный толмач. — Ну ничего, поговорим мы еще!
— Ты уж попридержал бы язык, Степка! — неожиданно рассердился на холопа князь Семен Иванович. — Теперича казанцы — слуги московского государя, за жалованье у него служить станут!
Сеид и Чура Нарыков прибыли в Казань ночью. Мосты были подняты, город безмятежно спал.
— Караул! — крикнул в ночь Чура. — Опустите мост, здесь карачи казанские дожидаются!
Не сразу был услышан голос эмира. Сначала в глубине башни через узенькие бойницы вспыхнуло красноватое пламя факела, брызнув снопом искр, а потом сердитый голос спросил:
— Кто?
— Это Кулшериф и эмир Чура Нарыков.
Цепь, будоража ночь, раздосадованно заскрежетала, словно была против визита поздних гостей, а потом мост мягко уткнулся краем в противоположный берег рва, приглашая сеида и эмира в город.
— Пойдем, Каратай, — ласково потрепал по гладкой холке своего коня Чура Нарыков. — Вот мы и дома.
Жеребец, послушный хозяйской ласке, ступил на бревенчатый мост и весело зацокал подковами по толстому тесу.
Нур-Али выглядел растроганным. Он первым сделал шаг навстречу, крепко приобнял сеида и Чуру, проводил гостей к себе, щедро из своих рук налил в пиалы кумыса.
— Урусы готовятся войти в Казань? — разомкнул он уста.
Чура Нарыков посмотрел на Нур-Али, который двумя пальцами отламывал бухарские сладости, а потом ответил:
— Урусский царь силен. Сейчас самое разумное — это присягнуть царю Ивану.
— Ты изменил свое мнение, Чура? — Эмир ополоснул сладкие руки в тазу.
— У меня было для этого время, уважаемый Нур-Али. Если мы не сделаем этого сейчас, то через неделю полки урусского царя будут стоять под стенами Казани. Мы должны спасти наших детей.
Сеид отставил пиалу с кумысом в сторону, но чаша неловко опрокинулась набок, и белые густые струйки потекли на пол, заливая крылатого дракона, выложенного зеленой мозаикой.
— Мы сильны, пока у нас есть наша земля и наш город, — заговорил Кулшериф. — Я боюсь представить, что может случиться с нашим народом, если мы лишимся всего этого. Как только гяуры войдут в Казань, так они тотчас разрушат наши мечети, веру нашу предадут греху, а детей и жен наших заставят поклоняться чужому богу. Боюсь, что в этом случае нам не отвоевать не то что Горную сторону, но даже не выставить гяуров из города.
— Важно, чтобы гнев не помутил разум. Будет лучше признать царя Ивана своим ханом, чтобы потом стать свободными, — повторил свою мысль Чура.
Сеид и Чура Нарыков выжидающе посмотрели на Нур-Али.
— Сейчас мы должны принять над собой власть царя Ивана, чтобы спасти Казань, — заключил хозяин дома. — Аллах всюду, и мы должны помнить о том, что у нас есть друзья. Девлет-Гирей и султан Сулейман не оставят нас своей милостью.
— Пусть будет так, — согласился сеид.
На другой день почти все находящиеся в столице казанские вельможи выехали на Круглую гору.
Город подивил мурз своей прочностью. Крепкие дома, мощные крепостные стены — видно, что гяуры их складывали на века.
В Иван-городе была толчея: без дела сновали отпущенные на волю христиане и для порядка, с бердышами на плечах, прохаживались по улицам стрельцы. В церквах священники горланили псалмы, в нос ударил запах ладана.
Князь Микулинский вышел на широкое деревянное крыльцо и челобитием приветил казанских мурз. Следом за Микулинским повыскакивали дьяки и, напустив на себя ученый вид, наперегонки пустились в поклоны.
— Милости просим, — басил князь. — Хлебосол на столе расставлен, вас дожидается.
Мурзы, позабыв недавнюю робость, вошли в дом. Толстые ядреные девки подавали пиво, мед, на подносах приносили мясо и пироги с капустой. Угощение было щедрым.
— Якши, — щелкали карачи языками и не без удовольствия наблюдали за крепкими девками, беззастенчиво таращились в их широкие лица и добавляли с чувством: — Бик якши! Очень хорошо.
Утром казанцы давали клятву на верность московскому государю Ивану Васильевичу.
— Пусть по своей вере присягают, — настоял князь Микулинский. — И пускай книжку свою священную целуют.
Казанские карачи становились коленями на модельный коврик, простирали руки кверху и долго твердили суры из Корана, из коих князь Микулинский понимал только «Алла», после чего объявляли, что клятва состоялась.
Сеид приносил присягу вместе со всеми мурзами, а потом произнес заключительную речь:
— Да пошли на нас свой праведный гнев, великий Аллах, если мы по злому умыслу или случайно нарушим клятву, данную царю Ивану. Пусть же и после смерти нам не будет прощения и тела наши будут страдать, а души скорбеть о содеянном бесчестии. Если мы нарушим клятву, данную на верность царю Ивану, то пусть сразу попадем в джаханнам,[72] где гореть нам в вечном огне и быть связанными цепями, и есть нам тогда плоды дерева заккум, которые подобны головам шайтанов, и пить нам тогда гнойную воду и кипяток, который рассечет все внутренности. А потом, если мы нарушим эту клятву, терпеть нам стужу, чтобы наше тело трескалось на холоде и кровоточило. Амин!
Кулшериф поднял руки и, касаясь кончиками пальцев волосатого лица, свершил святое омовение.
А следом за сеидом сотни рук взметнулись в воздух.
— Амин! — прозвучало словно выдох. — Хвала Аллаху!
Карачи один за другим поднялись, повязали на поясе платки. Сеид подошел к князю Микулинскому и объявил:
— Мы сдержали свое слово и дали клятву. Теперь нам держать ответ перед Аллахом. Пусть такую же клятву дадут и твои эмиры.
— Дело говоришь, сеид, — не стал отпираться Микулинский и окликнул стоящего рядом дьяка: — Эй, Степка, чего олухом стоишь да мух ртом ловишь? Покличь воевод, клятву казанцам давать станем.
— С крестным целованием? — засомневался дьяк.
— А то как же? С крестным целованием, как государь московский наказывал.
Первым «проклятую» грамоту давал Семен Иванович. Распахнул боярин на груди багряную рубаху и, оборотясь к мурзам, торжественно молвил:
— Обещаю быть правителем на граде Казани честным. Кровь подданных понапрасну не лить. Мудро внимать всем ябедам и быть справедливым судьей. Веру басурманову не притеснять, жен казанских не смущать и другим не позволять чинить надругание. Чтить казанских князей и на права их не покушаться… На том крест целую. Рассуди и пойми меня, Господи, — коснулся губами Семен Иванович золотого крестика. — Если же я нарушу клятву, то пускай буду предан святыми отцами анафеме.
Следом за боярином, скинув с себя шапки, давали клятвы другие воеводы. Мурзы, стоявшие рядом, время от времени кивали бритыми головами:
— Урус якши!
Семен Микулинский отыскал глазами в толпе мурз и эмиров сеида. Его высокая чалма башней возвышалась над толпой. Кулшериф был спокоен и сдержан.
Клятва свершилась. Высоко над головой прошли грозовые тучи. Дождь пролился за городом.
— Ты там своего Аллаха попроси, чтобы он надоумил и других казанцев дать клятву на верность царю Ивану, — обратился князь к сеиду. — А за меня ты не беспокойся, лиха я не причиню, а еще Господу помолюсь, чтобы и другие милостивыми были.
На следующий день князь Микулинский отправлял в Казань подьячего Ивана Черемисинова да толмача Степашку, чтобы привели к присяге остальных горожан.
— Вот тебе письмо казанскому народу от самого сеида… Самого главного их мусульманина. Зачитай перед всеми, пусть послушают и не упрямятся, а уж только после этого к присяге приводи. Да, еще вот что. Сам знаешь, народ они хитрющий, смотри там повнимательнее, чтобы лиха никакого не учинили. А еще с тобой Чура Нарыков поедет да дети боярские.
В тот день князь Микулинский в избу не заходил даже в обедню: не уставал распоряжаться, беседовал с сеидом, а потом решил переговорить с Чурой Нарыковым:
— Слыхал я о том, что ты мусульманин добрый. Мне государь об этом отписывал. Усердием твоим он доволен. Быть может, тебя первой рукой и сделаю. Мурзами и эмирами повелевать станешь.
Чура оставался равнодушным к лестным словам, только губы его слегка дрогнули.
— Ты бы в Казани дворы для наших воевод сыскал, а потом дашь знать. Боярские дети приберут в хороминах к нашему приходу.
— Хорошо, пусть будет так, — подумав, ответил эмир.
Когда он ушел, Микулинский подозвал к себе Ивана Черемисинова:
— Татарина ухмыляющегося приметил?
— Видал, князь.
— Ты бы проследил за ним. Он один из главных в Казани, как бы не сотворил чего. Говорит одно, а на уме совсем другое держит.