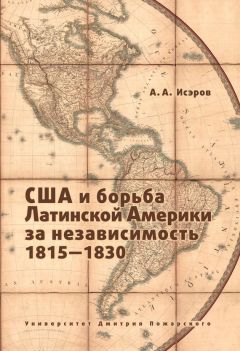Марк Твен - Жанна дАрк
С наступлением вечера мы, домремийские представители личной свиты, пришли в харчевню, собрались в комнате отца и дяди и начали попивать вино да беседовать запросто о Домреми и о деревенских соседях. В это время привезли от Жанны большой пакет, с приказанием не вскрывать его до ее прихода; а вскоре явилась и она сама и, отослав свою стражу, сказала, что она хочет занять одну из комнат отца, переночевать в ней и, таким образом, снова почувствовать себя под родным кровом. Мы, члены свиты, поднялись при ее входе и, как подобало, продолжали стоять, пока она не разрешила нам сесть. Тут она повернулась и заметила, что оба старика тоже встали и смущенно топчутся, совсем не по-военному; ей было смешно, но она сдержалась, не желая их обидеть; она усадила их, и сама уселась между ними, и положила руку каждого себе на колени, и вложила свои пальцы в кисти их рук, и сказала:
– Ну, отбросим теперь все эти церемонии и превратимся опять в родных и в друзей, как в былые времена; ведь я с этого дня покидаю войну, и вы возьмете меня с собой, и я увижу… – Она остановилась, и счастливое лицо ее омрачилось на мгновение, как будто в ее уме промелькнуло сомнение или предчувствие; но тотчас она опять повеселела и произнесла тоном страстного стремления: – О, поскорей бы настал день, поскорей бы нам двинуться в путь!
Отец удивился и сказал:
– Неужели, детка, ты не шутишь? Неужели ты готова отказаться от совершения этих чудес, за которые все восхваляют тебя, – и как раз в такое время, когда ты имеешь возможность завоевать еще большую славу? И ты готова прекратить завидную дружбу с принцами и генералами, чтобы снова нести тяжелую работу и сделаться незаметной крестьянкой? Это неразумно.
– Еще бы! – сказал дядя Лаксар. – Ты ведешь странные и непонятные речи. Уж и тогда она нас удивила, когда затеяла идти в солдаты; а теперь удивила еще больше – хочет покинуть войско. Поверь мне, коли я скажу, что до нынешнего дня и часа я еще не слыхивал таких странных речей. Хотелось бы мне знать разъяснение.
– Объяснить легко, – сказала Жанна. – Я никогда не стремилась к страданью и увечьям, да и по своей природе я не способна служить их причиной; ссоры всегда меня тревожили, шум и смятение мне не по душе; я предпочитаю мир и спокойствие, люблю все живущее. И если я так создана, то как же я могла бы мечтать о войнах, о кровопролитии, о сопровождающем их страдании, об остающихся после них горючих слезах? Но Господь, через ангелов Своих, возложил на меня великое дело, и могла ли я не повиноваться? Что Он повелел, то я исполнила. Много ли дел возложил Он на меня? Нет, только два – освобождение осажденного Орлеана и венчание короля в Реймсе. Поручение исполнено, и я свободна. Когда на моих глазах погибал какой-нибудь бедный солдат – друг или враг, все равно, – то разве я сама не чувствовала телесной боли, разве скорбь его близких не находила отзвука в моем сердце? О, никогда я не была безучастна. И сколь благодатно сознание, что я добилась своей свободы и что я больше ни разу не увижу этих жестокостей, не буду испытывать этих душевных страданий! Почему же мне, в таком случае, не вернуться в деревню и не начать прежнюю жизнь? Ведь это – рай! А вы удивляетесь, что я туда стремлюсь. О! Вы – мужчины, настоящие мужчины. Моя мать поняла бы сразу.
Они не знали, что ответить, и некоторое время сидели молча, с растерянным видом. Наконец старый д'Арк сказал:
– Да, твоя мать – это верно. Такую женщину поискать. Все-то она тоскует и тоскует; по ночам не спит, знай лежит себе да раздумывает – тоскует то есть. По тебе тоскует. Воет на дворе буря, а она тяжко вздыхает и говорит: «Да поможет ей Бог, она, небось, сейчас в дороге с бедными промокшими солдатиками». А коли блеснет молния да загрохочет гром, то она начнет ломать руки и скажет: «Вот этак-то грохочут пушки да сверкают пороховые огни; она где-нибудь несется сейчас среди пушечных ядер, и нет меня, чтобы ее защитить».
– Ах, бедная мама; мне так ее жалко, так жалко.
– Да, чудная женщина; на нее сплошь и рядом такое находит. Когда привозят известие о победе и вся деревня начинает бесноваться от радости да с гордости, то твоя мать принимается бегать туда и сюда, среди безумно ликующей толпы, пока не узнает того, в чем вся ее забота, – что ты здорова и невредима; а тогда она бросается на колени – прямо в самую грязь – и восхваляет Господа, и не перестает молиться, покуда хватает сил; и все – за тебя; о сражении не скажет и словечка. И всякий раз она говорит: «Теперь конец… Теперь Франция спасена… Теперь-то Жанна вернется к нам…» – но всякий раз ей приходится разочаровываться, и конца нет ее горю.
– Довольно, батюшка, у меня сердце так и надрывается. Я с ней буду так добра, когда вернусь. Я буду работать за нее, буду ее утешать, и ей больше не придется страдать из-за меня.
Разговор еще некоторое время продолжался в этом же роде. Потом дядя Лаксар сказал:
– Ты, милая, исполнила волю Господа, и вы с ним квиты; это так, и никто с этим не станет спорить; но как же с королем? Ведь ты у него лучший воин; что если он прикажет тебе остаться на службе?
Это был тяжелый удар – и неожиданный! Жанна была потрясена и не сразу оправилась. Затем она сказала, просто и покорно:
– Король – мой господин; я – его служанка.
Некоторое время она молчала, задумавшись; потом лицо ее прояснилось, и она весело сказала:
– Отгоним прочь эти мысли – они не ко времени. Лучше расскажите мне про родные места.
И оба старых болтуна принялись говорить и говорить; они рассказывали обо всех и обо всем, что относилось к деревне. И любо было их слушать. Жанна, по доброте своего сердца, пыталась вовлечь и нас в беседу, но, конечно, это не удалось. Ведь она была главнокомандующим, а мы – никем; ее имя было во Франции самым могущественным, а мы представляли собой незримые атомы; она была сотоварищем принцев и героев, тогда как мы несли удел смирения и неизвестности. Она была превознесена выше всех деятелей и властелинов целого мира, ибо ее уполномочил непосредственно Сам Господь. Короче – она была Жанна д'Арк, а этим все сказано. В наших глазах она была божественна. Между нею и нами лежала непроходимая пропасть, которую знаменует это слово. С ней мы не могли говорить, как с равной, нет; вы сами видите, что это было невозможно.
И в то же время она была так человечна, так добра и снисходительна, так мила и любвеобильна, так весела, обаятельна, неизбалованна, чистосердечна! Вот те слова, которые сейчас пришли мне на ум, но они не исчерпывают всего; их слишком мало, они чересчур бесцветны и убоги, чтобы пересказать все, пересказать хоть половину. А эти простодушные старички не сознавали, какова она; им было не понять. Ведь они не знавали никого, кроме заурядных людей, а потому у них не было и мерила, чтобы оценить ее по достоинству. Когда они оправились от первого легкого смущения, то они увидели в ней молодую девушку – и никого больше. Это было поразительно. Иной раз нельзя было без трепета видеть, как непринужденно, как спокойно и запросто они держатся в ее присутствии, и слышать, что они разговаривают с ней совершенно так же, как стали бы разговаривать с любой другой французской девушкой.
Простодушный старый Лаксар как ни в чем не бывало сидел на своем месте и тянул скучнейший, бессодержательный рассказ; ни он, ни папаша д'Арк ни разу не подумали о том, насколько это противно этикету, – они даже не подозревали, что этот глупый рассказ не имеет ничего общего с благопристойным и ценным повествованием. В рассказе не было и крупицы чего-нибудь ценного, и хоть он казался им грустным и трогательным, однако он вовсе не был трогателен, но – попросту смешон. По крайней мере, таково было мое мнение, и этого мнения я не изменил до сих пор. Я могу даже с уверенностью сказать, что рассказ был смехотворен, так как он заставил Жанну рассмеяться; и чем он становился печальнее, тем сильнее она смеялась. Паладин говорил потом, что он сам расхохотался бы, будь это в отсутствие Жанны; то же самое сказал Ноэль Ренгесон. Старый Лаксар рассказывал, как две или три недели назад ему случилось быть на похоронах. Лицо и руки у него были в красных пятнах, и он попросил Жанну смазать их какой-нибудь целебной мазью; а пока она занялась этим, и утешала его, и старалась всячески проявить свое сострадание, он рассказывал, как это произошло. Сначала он спросил, помнит ли она того черного теленка, который остался в деревне, когда она ушла на чужбину; она сказала, что помнит его отлично – он был такой милый, и она очень его любила, и как он теперь поживает? – словом, осыпала его вопросами об этом животном. Дядя отвечал, что теленок уже превратился в молодого быка; он очень шустрый; и ему пришлось принимать видное участие в похоронном шествии. «Быку?» – спросила Жанна. «Нет – мне», – ответил он; впрочем, быку тоже пришлось участвовать, но не потому, что его пригласили, вовсе нет; во всяком случае, он, дядя, шел в тех местах, за «Древом фей», и прилег отдохнуть на траве в своем воскресном траурном наряде и в шляпе с длинным куском черного крепа; а когда он проснулся, то по солнцу увидел, что уже поздно и что нельзя терять ни минуты; он вскочил, перепуганный, и увидел пасущегося неподалеку молодого быка, и подумал: отчего бы ему не поехать на быке верхом, чтобы выиграть время? И вот обвязал он быка веревкой, на манер подпруги, чтобы было за что держаться, накинул поводья, чтоб править, вскочил и поехал; но быку это было непривычно, он рассердился и давай метаться, мычать, брыкаться, становиться на дыбы; дяде Лаксару этого было довольно, он хотел слезть и приехать на другом быке или вообще избрать более спокойный путь, но он не смел шевельнуться; ему уж становилось жарко, он устал и запарился, совсем не по-воскресному; а бык наконец потерял всякое терпение и понесся под гору, задрав хвост и мыча страшным голосом, и на краю деревни он опрокинул несколько пчелиных ульев, – пчелы вылетели и черной тучей погнались за ними обоими, скрыв их из глаз, и давай их щипать, жалить, колоть, так что они оба визжали и мычали, мычали и визжали; и вот они ураганом налетели на похоронное шествие, в самую середину, – одних сшибли с ног, других заставили разбежаться врассыпную; крику-то, крику было! Всех бежавших облепили пчелы, а от похоронного шествия остался только покойник; и наконец бык бросился к реке и прыгнул в воду, а когда вытащили дядю Лаксара, то он был еле жив, и лицо его было как лепешка с изюмом. Закончив рассказ, этот простоватый старичок повернулся и долго с изумлением смотрел на Жанну, припавшую лицом к подушке и, казалось, охваченную смертельными судорогами; потом он сказал: «Как ты думаешь, чего она смеется?»