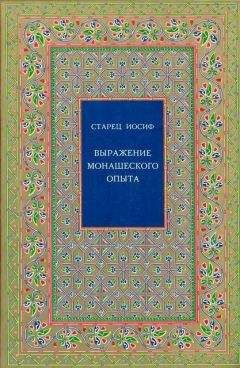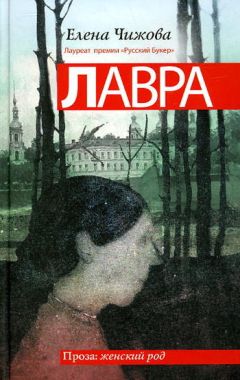Игорь Лощилов - Несокрушимые
«Опять про старое вспомнил?» — возникла у Долгорукого былая подозрительность и тут же угасла — сейчас, когда подошли к самому краю, хороши любые средства. Только начал было обдумывать высказанное, в сенях послышался шум и к воеводам ворвалась прачка Ефросиния, сразу заполнившая собой просторную палату.
— Почто, соколы, клювики свесили? — вскричала она. — Сидите в прохладе, окна прикрывши, а на воле ляхи трубьями гремят.
Долгорукий нахмурил брови.
— Чего орёшь, кто пустил?
— Я без спросу, а кто не пускал, к порогу притулился. Не сердитесь, подмогу привела. — Ефросиния кивнула в сторону окна. Голохвастов метнулся к нему и открыл — в палату ворвался разноголосый шум, весь двор заполнили бабы в белых платках, будто на богомолье пожаловали. — Ты, князь, головой не тряси, мои бабцы многим из твоих не уступят, бери и расставляй по стенам.
— Вот дура-баба, — усмехнулся Долгорукий, — на стенке стоять, не бельё прать, навык нужен.
— Так научи! Дай приказ воеводам и сам иди.
— Размечталась, не княжье это дело баб к ратному делу наставлять...
Ефросиния упёрлась в бока кулаками и бесстрашно перебила:
— Я от этих слов быстро отваживаю. Мой мужик тоже, бывало, от всего отказывался, не мужское, мол, это дело. Хорошо, говорю, иди делай своё, мужское. Он, голубь, вскорости до того изнемог, что как разденусь, сразу за ведра хватался. Так пойдёшь, или...
Голохвастов прыснул, Долгорукий тоже не сдержал улыбки: бойка, такая и впрямь отвадит. Ладно, сказал, пойду погляжу, может, и вправду тех кто посильней в дело возьмём, приставим в помощь, кого к пушкарям, кого к копейщикам, но гляди, чтоб никакого баловства не было.
— Ты своих тоже предупреди, не то я ихние копья быстро обломаю, — тут же отозвалась Ефросиния и так сдвинула вместе дюжие красные кулаки, что воеводам стало ясно — обломает.
Недолго, однако, продолжалась учёба; захваченный на вылазке казак рассказал, что приступ намечен в ночь на 31 июля, в канун заговенья на Успенский пост, наступать будут с двух сторон: от Нагорного пруда казаков поведёт атаман Болдырев, от Красной горы — сам полковник Зборовский. Защитники и защитницы спокойно заняли своп места. Монастырские старцы ходили по стенам с образом Богоматери и говорили: «Молитесь усердно Заступнице, просите о помощи в напастях, она даст силу изнемогающим, утешит в скорби и будет путеводить к победе, как уже делала многим страждущим». Ефросинию, негласную воеводшу, видели во многих местах, о чём-то шепчущейся с новоприбранными, и воеводы, будто налились новой силой, от недавней растерянности не осталось и следа — ходили по крепости, расставляли наряд, а Голохвастов, придумавший какую-то новую каверзу, водил за ворота землекопов и заставлял их копать под крепостными стенами. До самой ночи шли приготовления.
Враг тоже готовился загодя. С вечера к Нагорному пруду скрытно выдвинулся отряд Болдырева, казаки расположились на отведённом месте и застыли, дожидаясь часа. Сияла луна, небо было усыпано частыми звёздами, которые то и дело срывались вниз, устремляясь прямо к крепости. Казалось, что рушится мироздание, многие, обуреваемые неясной тревогой, старались не смотреть на игру небесной стихии и забывались в дремоте. Вдруг в притаённой тишине громко вскрикнул во сне один из засадников, а очухавшись, рассказал, что ясно видел, как между ними и крепостью возникла быстрая река, нёсшая деревья, скирды и тонущую живность. На стене стояли убелённые сединами старцы и кричали сидящим в засаде: и вам-де так же скоро плыть, ежели к себе не вернётесь. Смутились казаки, рассудили, что это дурное знамение; прибежавший Болдырев не стал слушать сказок, огрел крикуна плетью и, воспользовавшись кратким затемнением, велел идти вперёд. Притушенный лунный свет позволил казакам незаметно приблизитться к крепости, оставалось совсем немного, как снова засияла полная луна, и все увидели, что на стенах стоят седовласые люди. Тут иные невольно остановились и сказали: «Нэ пийдемо на погибель!» Ругань и угрозы атамана на них не подействовали, отвернули в сторону, за ними скоро последовали остальные. Стоявшие на стене бабы с удивлением видели, как внезапно отошло вражеское войско, не сделавшее ни единого выстрела, не знали они, что их белые платки показались издали сединами святых старцев, покровительствующих обители. Отнесли это на счёт Богоматери, о чьём заступничестве так усердно молили, и возрадовались.
Тем временем начал своё движение Зборовский. Крепость тотчас опоясалась дымками пушечных выстрелов. Нетерпеливый полковник не стал прибегать к осадным хитростям, понадеялся на ночную темноту и стремительность своего войска, только не учёл, что каждый вершок здесь был хорошо пристрелян и крепостные пушки могли метко стрелять даже в кромешной тьме, не то что в такую чудесно озарённую ночь. Их огонь дал немалый урон, и Зборовский приостановил движение, решив пожертвовать стремительностью ради малозаметного продвижения вперёд. Стрельба с его стороны прекратилась, скоро замолчали и крепостные пушки, на поле боя установилась тишина. Она несколько удивила, при такой полной луне движение войска, хоть и самое осторожное, не могло быть незаметным, о чём думают эти дикари, допуская близкий подход неприятеля? И тут тишина порвалась пением, это была не молитва, не боевая песнь, какие-то отчаянно задорные звуки неслись с крепостной стены. Сначала различались отдельные слова, потом дошёл и смысл, не очень приятный для Зборовского. На стене стояла большая фигура и громко выкрикивала:
Как под Тверью глупый пан
Потерял в бою жупан,
По плечам похлопай —
Там ли твоя...
Общий хор делал радостное дополнение. Песня повторялась, вызывая усмешку у тех, кто продвигался вперёд. Зборовский удивлённо повернулся к толмачу Яну, тот перевёл только первые строчки, и пан презрительно фыркнул: «Что тут смешного? Дикари, право, дикари». В крепости тоже не все одобряли подобное озорство, строгие монастырские старцы ворчали: «Лучше бы молились, чем срамные песни голосить», а наперекор им неслись новые озорные припевки.
Смешки раздавались совсем рядом, пан не стал прибегать к помощи Яна, он нутром чувствовал какой-то тайный, обидный для себя смысл и, более не медля, дал сигнал к броску. Казаки с воем устремились вперёд, почти одновременно со стены скользнула огненная змея — Голохвастов зажёг просмолённую верёвку, от которой вспыхнула наполненная смолой канава, это её накануне выкопали под крепостными стенами. Неожиданно возникшая огневая стенка вызвала оторопь, заставила попятиться назад. Зборовский метался между казаками, толкал вперёд, заставлял стрелять, сам выхватывал мушкеты и палил в сторону крепости, его никто не слушал, наконец, отчаявшись, велел отходить к оврагу, надеясь привести там непослушное войско в порядок и начать приступ по-новому. Ему не удалось и это, отошедшие не стали копиться в овраге, а сразу растеклись в разные стороны, собрать их воедино уже не представлялось возможным. Так и закончился этот последний приступ, крепость потеряла в ту ночь лишь одного человека — от случайного выстрела пала доблестная Ефросиния.
Сапега отнёсся к неудаче Зборовского благодушно. «Ты слишком торопился, — назидательно сказал он, обогащённый опытом почти годовой осады, — нужно немного подождать и не тратить силы напрасно, у нас есть более достойный противник». Гетман имел в виду Скопина, направившегося от Твери в сторону Ярославля. Измена союзников лишила того возможности идти прямо к Москве, он намеревался усилиться за счёт ополчения северных городов, нижегородской рати Фёдора Шереметева и иных добровольцев. Во все концы летели призывные грамоты, и русские люди быстро откликались. Приходили в основном неумельцы, швед Христиарнен Зоме наскоро обучал их ратному делу и отправлял в строй, благодаря чему войско Скопина быстро увеличивалось. Враги скоро осознали растущую опасность, царик умолял Сапегу оставить все прежние намерения и обратить главное внимание на угрозу с севера. 12 августа он писал: «Известились мы, что благосклонность ваша снова замышляет штурмование Троицкого монастыря; мы же от приведённых к нам языков за достоверное знаем, что Скопин переправляется через реку Костер... А посему убедительно просим, дабы благосклонность ваша, отложив штурмы, имела над этим неприятелем бдительное око, дабы он каким-нибудь образом не подступил к столице, через что весьма бы увеличились затруднения». Опытный Сапега и сам хорошо понимал, что нужно срочно воспрепятствовать усилению грозного врага, а потому ещё до получения письма покинул лагерь под Троицей. 14 августа он был уже в Рябовой пустыни, в 20 вёрстах от Калягина, где находился Скопин.
Силы противников были неравными: у Сапеги — 12 тысяч отборного войска, усиленное казаками Заруцкого, которых привёл из Тушина сам красавец-атаман. У Скопина — менее 10 тысяч человек, большую часть которого составляли ополченцы, лишь вчера взявшие оружие в руки, да тысяча шведов, возглавляемых неутомимым Зоме. Однако русский полководец решил не уклоняться от боя. Наиболее боеспособную часть войска во главе с воеводами Борятинским, Жеребцовым и Волуевым он отправил за Волгу, а сам с ополченцами и шведами остался на левом берегу, решив распорядиться ими по обстоятельствам. В ночь на 18 августа Сапега выступил из Рябовой пустыни и двинулся вдоль левого берега реки Жабни, дошёл до села Пирогова, стоявшем на месте её впадения в Волгу, и утром начал переправу. Правый берег Жабни был низок и заболочен, войско с трудом выбиралось на сухое место, а там их уже поджидал высланный Скопиным отряд. Вихрем налетел он на ляхов, вогнал в болота и многие там погибли, а иные побежали назад в село. Скопин не дал им собраться, начал переправу сам и ударил с двух сторон ополченцами и передовым отрядом. Закипел страшный бой, в пороховом дыму трудно было разглядеть друг друга, среди грохота пищалей, звона железа, треска ломаемых копий и воплей раненых нельзя было ничего услышать. Так продолжалось весь день, победа склонялась то в одну, то в другую сторону, и вот уже на закате перед русскими войсками показался всадник на белом коне, то был сам Скопин, вывел он последние две сотни, оставленные в ратный запас, и вскричал, обращаясь к знаменитому калязинскому чудотворцу: «Отче Макарий, помоги нам!» Прогрохотал гром собирающейся грозы, русские сочли это ответом небесного защитника и ударили с такой силой, что ляхи дрогнули и побежали. Русские устремились в погоню, от полного разгрома Сапегу спасла только начавшаяся гроза. Она была в то лето последней.