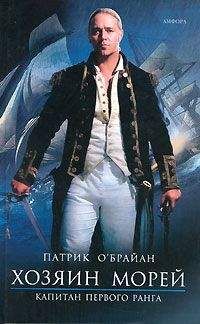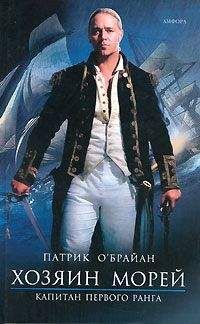Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
И не день, и не два тоска гложет. Не утерпела, пошла к старой ведунье, открылась.
Ведунья вздохнула:
— Непростое твое дело, голубушка, ох, непростое… Всяки люди у меня были, помогала. От сглазу дурного, от порчи, от винного запойства… Мало ли всякой напасти? Твоя ж печаль далеко сокрыта.
— Да хоть бы одно проведать: жив ли, не он ли воеводой объявился? Ты уж порадей, бабушка, сведай.
— Тяжело оное сведать… К омуту схожу, приходи позаутру.
Пришла, подарков принесла. Ведунья же даров не приняла.
— Не обессудь, голубушка. Не сведала. Уж всяко загадывала, да проку мало. Мутно все, черно, неведомо. Молись!
Василиса и вовсе закручинилась:
— Худо мне, бабушка. Ни за прялкой, ни за молитвой нет покоя. Истомилась, душой истерзалась. Ужель и открыть некому?
Ведунья, дряхлая, согбенная, с трясущейся косматой головой, надолго замолчала и все смотрела, смотрела на Василису глубоко запавшими выцветшими глазами.
— Чую, до скончания века запал тебе в душу сокол твой. И суждено ль тебе молодца зреть — один бог ведает.
— Уж я ль его не просила, бабушка!.. Молчит, нет от него знака. Ужель так и жить в неведеньи? Подскажи, посоветуй!
Василиса пала перед ведуньей на колени.
— Ох уж это бабье сердце горемычное, — протяжно вздохнула ведунья и легкой невесомой рукой огладила Василисины волосы. — Так уж и быть, подскажу тебе, голубушка… Есть за тридцать три версты от града стольного лес вельми дремуч. Осередь лесу — полянка малая. На полянке — кочедыжник[53], цветок всемогущий. А цветет он единожды в год, в ночь на Иванов день[54], и горит огнем ярым. И ежели кто сей кочедыжник отыщет, тому станут ведомы все тайны, и ждет его счастье неслыханное. Он может повелевать царями и правителями, ведьмами и лешими, русалками и бесами. Он ведает, где прячутся клады, и проникает в сокровищницы; лишь стоит ему приложить цветок к железным замкам — и все рассыпается перед ним…
Ведунья рассказывала долго. В избушке сумеречно, потрескивает лучина; пахнет сухими травами и кореньями, развешенными на колках по темным закопченным стенам.
В колдовском сумраке — тихий вещий голос:
— Но взять сей чудодей-цветок мудрено. Охраняет его адская сила, и лишь человеку хороброму дано сорвать сей огненный кочедыжник. С другого же злой дух сорвет голову. Не всякий дерзнет на оное.
— А я б пошла, пошла, бабушка. Неведение — хуже смерти. Молви, как найти дорогу к кочедыжнику. Не пожалею ни злата, ни серебра.
— Не нужно мне твое злато, голубушка… Помру в Великий пост. О сопутье же поведаю. Ходила девицей в сей лес, поляну с кочедыжником зрила.
— И цветок?
— Нет, голубушка. Кочедыжник на рождество Иоанна Крестителя расцветает, я ж допрежь приходила. Привела меня скитница Варвара да молвила: «Тут твое счастье, девонька. Явись в полночь на Иоанна Предтечу и жди, покуда кочедыжник огнем не загорит. Сорвешь — с тобой будет добрый молодец».
Я в ту пору красна молодца взлюбила, душой иссохла, а он к другой сердцем тянулся. Не пошла вдругорядь на поляну, одумалась: намедни видение было. Явился ко мне сам господь да изрек:
«Не ходи на рождество Иоанна в лес. Смертный грех — молодца от суженой уводить».
Не пошла. Поплакала, покручинилась — и смирилась. Так вот и прожила одна-одинешенька. А тебе поведаю, поведаю, голубушка, коль любовь меж вами была великая.
Все забыто: хоромы, Никитка, шумная Москва. В затуманенной голове — ведунья, поляна, цветок.
Погожее утро. Лес. Солнце брызжет через лохматые вершины.
«Лишь бы дойти, добраться, а там — как господь укажет».
— Не идет — летит по лесу. Легкий шелковый сарафан синим облачком мелькает середь красных сосен.
Шла час, другой, не чувствуя под собой ног. Выпорхнула на угор и невольно остановилась, ахнула:
— Мать богородица! Экое дивное озерцо!
Озерцо, тихое, бирюзовое, окаймленное вековыми елями, лежало внизу под увалом.
Спустилась, присела на бережок, свесила руку. Вода теплая, ласковая, манящая.
«Седни же Аграфена-купальница», — вспомнила она, и тотчас предстало перед глазами родное сельцо, подружки, игрища.
Солнце, спрятавшееся было в тучах за угором, вновь выплыло над озерцом, ослепило глаза. Василиса невольно зажмурилась и улыбнулась, припомнив, как ходили они с Иваном «караулить солнце».
Поднял их в доранье Афоня Шмоток и повел на Богородицкое взгорье. Всю дорогу рассказывал:
— В Иванов день солнце на восходе всегда играет. Выезжает из своего чертога на трех конях: золотом, серебряном и адамантовом[55]. Едет ко своему супругу месяцу. Вот и пляшет на радостях, будто младень тешится. Лепота! Век экой красы не узреть.
— Ужель когда и зрел? — усомнился Иванка. Ему-то такого чуда посмотреть еще не доводилось.
— А то как же! Вот те крест! Сколь раз. Солнце веселое, будто чарку поднесли, вовсю резвится. То, браг, спрячется, то вновь покажется, то повернется, то вниз уйдет, то блеснет голубым, то малиновым, а то и всем многоцветьем. А бывает, поскачет, поскачет да и в воду сиганет. Купается. Не тошно ли в экой жаре по белу свету бегать? Хоть раз в году охладится.
На взгорье поднимались всем селом.
Многие приходили на взгорье с вечера. Пили пиво и брагу, стучали в бубны, играли в дудки, рожки и сопели, плясали, разжигали костры, водили хороводы.
Василису обволокло жаром. Она глядела на лес и заливалась румянцем. Вот в таком же ельнике ее горячо ласкал Иванка. Как без вина хмельна была она в эту ночь. Каким счастьем полнились ее глаза, как ликовала душа!
Затем они бежали к реке и, вдоволь накупавшись, поднимались к костру. Его разводили на самом взгорье, разводили в честь солнца и чтобы «очиститься» перед зажинками.
С темнотой же парами разбрелись по лесу. Иванова ночь! Ночь греха и любви[56].
Скакали через костер от «немочей, порчи и заговоров». Верили: тех, кто прыгает в Иванову ночь через огонь, русалки не тронут. Парни и девушки прыгали парами, взявшись за руки; и ежели руки не разойдутся и вслед полетят искры, быть им после Покрова оженками.
Когда костер догорал, головешки раскидывали во все стороны — отпугивали ведьм. Всякая нечисть разгуливает в Иванову ночь; ведьмы ездили на Лысую гору на шабаш. Упаси бог выпустить в ночное лошадь со двора! Ведьма только того и ждет. Вспрыгнет, уцепится за гриву — и на Лысую гору. Пропадай коняга!
С усердием оберегали от нечисти избы и бани, конюшни и хлевы, гумна и нивы. За «обереги» принимались еще со дня Аграфены. В щели хлевов втыкали полынь и крапиву; хлев — любимое место ведьмы, так и норовит высосать молоко у коровы. Тут уж не плошай: втыкай перед дверью молодую осинку да разложи по всем углам ветви «ласточьего зелья».
На ворота вешали убитую сороку, приколачивали крест-накрест кусочки сретенской восковой свечи, вбивали в столбы зубья от бороны, привязывали косы — ведьма порежется.
Но пуще всего оберегали нивы: ведьмы любят передохнуть в жите. Вытопчут поле, оборвут колос, наделают «заломов». Прощай хлебушек! Чуть сутемь — мужики к полю. Всю Иванову ночь жгут костры, кидают головешки, шумят, орут, обходят нивы с косами.
Выкупавшись в озерце, Василиса тронулась дальше. Путь еще немалый, не дай бог к заветному месту припоздать. Только бы не сбиться. За озерцом, версты через три должны появиться овражища. За ними — дубовая чаща, речка, срубы скитников…
«Спросишь там отшельницу Исидору. Молвишь: бабка Фетинья прислала. Исидора тебя проводит. Да не забудь в скиту помолиться. Образок пресвятой богородицы с собой возьмешь».
Миновала и овражища, и дубовый лесок; вплавь одолела речку. Долго шла по лесной дорожке, а скитов все нет и нет. Обеспокоилась. Уж не перепутала ли чего бабка Фетинья?
Лесное одиночество не страшно. Привыкла: когда-то три года в лесных дебрях прожила. Вначале — у бортника Матвея, затем — в Федькиной землянке. Лес стал родным, привычным.
Вскоре почувствовала, что стала уставать, никак уж верст двадцать отмахала. Ноги отяжелели, будто к ним привязали вериги.
Опустилась под сенью березы, раскинула руки и тотчас забылась, погружаясь в сладкую дрему.
«Чуток полежу — и встану. Надо скит искать… Там отшельница Исидора… А вот и пустынь. Какой причудливый терем!.. Афоня Шмоток встречу. Махонький, неказистый, взъерошенный. В одной руке хомут, в другой — уздечка.
«Долгонько ты, Василисушка. Беги в терем!»
«Пошто, Афанасий?»
«Воевода ждет. Воевода Иван Исаевич».
Охнула — и птицей в терем. Сенями, гульбищами, переходами, и все наверх, наверх. Лесенке нет конца. Но сколь вдруг паутины! Будто сеть рыбачья вяжет по рукам и ногам. И все ж — бежит, продирается, но тут саженный паучище намертво запеленал тело. Закричала: