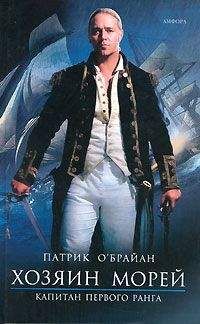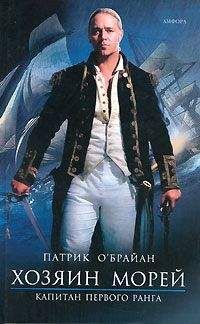Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
«Покуда Никитка подле матери, не дождаться мне Василисиной ласки».
Норовил улестить женку[51].
— Неча сыну твому без дела слоняться. Возьму Никитку в приказ, грамоте обучу, в люди выведу. Поначалу в писцах походит, а там, коль усердие покажет, в подьячие посажу. Будет и с деньгой, и с хлебом, и с сукном. Без подьячего, женка, ни одно дело не сладится. Как ни крути, как ни верти, а подьячего не обойдешь. Ему и мужик, и купец, и дворянин кланяются. У державных дел сидит!
Но Василиса на приманку не падка.
— Спасибо на добром слове, батюшка. Но рано Никитушке на государеву службу. Мал, неразумен.
Малей Томилыч говорил с укором:
— Не все ж твому сыну за подол держаться. Вон какой жердило. Самая пора в ученье отдавать. Рассуди-ка умом.
Но Василиса рассуждала сердцем: покуда Никитушка не войдет в лета, она неотлучно будет при сыне. А там как бог укажет. Авось и дале с Никиткой останется. Тот женится, детей заведет; ей же — внуков нянчить да на молодых радоваться.
Малей Томилыч хоть и серчал, душой вскипал, но волю гневу не давал: Василису окриком не возьмешь, чуть что — и со двора вон. Обуздывал себя.
Как-то крепко занедужил. Никогда не хварывал, а тут свалился, да так, что впору ноги протянуть. А было то на Филиппово заговенье. Малей Томилыч покатил через Москву-реку к Донскому монастырю и угодил в полынью. И лошади, и возница утонули, Малею же удалось выбраться на лед. Помогли мужики из Хаморной слободки. Замерзшего и обледенелого доставили в хоромы.
Хватив для сугреву чару вина, Малей Томилыч повелел истопить баню. Но на сей раз не помог чудодей-веник.
Занемог Малей Томилыч. Метался в жару, бредил, исходил потом. Дворовые шушукались:
— Плох подьячий. Сказывают, из полыпьи-то едва вытянули. Нутро застудил.
— Плох… Вот и супруга Феоктиста в зазимье померла. Как бы и Малей тово… Впору благочинного кликать.
Но благочинного Василиса не позвала. Верила: выходит, поднимет Малея Томилыча с недужного ложа. Варила снадобья из трав, поила, утешала:
— Ничего, ничего, батюшка, скоро поправишься.
Малей Томилыч слышал и не слышал, слова доносились будто сквозь сон. Раз очнулся, а перед ним Никитка; темные глаза добры и участливы, в руке легкий узорчатый корец[52].
— Испей, дядюшка Малей.
Подьячий обвел тяжелыми очами покои, спросил:
— Где ж матушка твоя?
— Притомилась, дядюшка. Соснула… Испей зелье.
Обнял подьячего за плечи, приподнял. Малей Томилыч выпил и вновь откинулся на мягкое изголовье.
— Теперь полегчает. Не седни-завтра в приказ пойдешь, — молвил Никитка матушкиными словами.
Сухие губы подьячего тронула скупая улыбка. А, кажись, добрый отрок. Смежил веки и сожалело вздохнул, в который раз уже посетовав на судьбу. Бог не подарил ему сына. Сколь раз супругу попрекал:
— Не чадородна ты, Феоктиста. Другие-то бабы не поспевают мальцов носить. Постыло без чад.
— Уж я ль не стараюсь, батюшка. Телеса мои не хуже других. Не сам ли в жены приглядел?
— Глазами в чрево не залезешь. Телеса добры, а проку?
— Да сам-то горазд ли? — обиженно поджимала губы Феоктиста.
— Цыц! — вскипал Малей Томилыч. — В нашем роду недосилков не было. Цыц, дура нежеребая!
Феоктиста — в рев. Серчая на мужа, затворялась в горнице. Не выходила день, другой, неделю, покуда Малей сам не пожалует.
— Буде… Буде уж.
Жарко припадал к ладному, горячему телу. Затем оба подолгу молились, прося у святых наследника.
Но ни бог, ни чудотворцы так и не смилостивились…
Малей Томилыч, поглядывая на статного, рослого отрока, думал:
«Кабы мне такого молодца. То-то бы подспорье. Добрый сын всегда в радость».
Пришла Василиса. Глянув на Малея, порадовалась:
— Никак в здравии. Вон и щеки зарумянились… А ты ступай, ступай, Никитушка.
— Не гони… Пущай со мной побудет, — задержав отрока за руку, тихо молвил Малей Томилыч.
С того дня будто что-то пробудилось в душе дьяка, глаза его все чаще и чаще тянулись к Никитке. Говаривал:
— Матушка твоя замаялась со мной. Пущай отдохнет.
«Что это с Малеем? — недоумевала Василиса. — Ужель Никитушка поглянулся? Дай-то бы бог… А может, покуда хворый? Подымется и вновь Никитушку перестанет замечать».
Нет, не перестал! Уж добрый год миновал после недуга, а дьяк все радушней к Никитушке, будто к родному чаду, привязался. Теперь без Никитки за стол не сядет.
У Василисы отлегло от сердца: покойно стало в дому, урядливо. Да и былая кручинушка так не гнетет. Знать, уж так на роду писано: не встретить ей больше Ивана, не голубить. Смирись с судьбой, Василиса, и живи тем, что бог послал.
И едва ли уж не смирилась, да вдруг будто громом ударило. Шла Великим торгом мимо Калашного ряда и неожиданно услышала из густой толпы:
— Жив Красно Солнышко… Войско собрал. Ведет рать Большой воевода Болотников.
Остановилась, охнула, сердце заколотилось. Господи, ужель почудилось?
Окстилась на храм Василия Блаженного, застыла, чутко ловя говор толпы.
— …В Путивле осел… Вся Комарицкая волость к Болотникову пристала.
Не почудилось!
О Болотникове рекут!
Бледнед, прислонилась к рундуку. Сердце вот-вот выскочит из груди.
Жив!.. Объявился!.. Воеводой в Путивле… Жив!
И все поплыло перед затуманенными очами: и многоликий торг, и благолепный храм Покрова, и белые стены Кремля.
Жив!
Василису кинуло в жар; не замечая слез, радостно думала:
«Господи, творец всемогущий! Уберег Иванушку, уберег сокола ненаглядного. Счастье-то какое, господи!»
— Ты че, женка? Аль обидел кто? — ступил к Василисе рыжекудрый детина в багряном зипуне. Глаза веселые, озорные, в руках — ендова и кружка с дымящимся сбитнем.
— Что? — рассеянно глянула на молодца Василиса.
— Че ревешь, грю? — широко осклабился детина. — Купец, что ль, обобрал? Не тужи, пригожая. С такой красой кручиниться грех… Испей-ка сбитню.
Сбитню? — все еще не приходя в себя, переспросила Василиса.
— Сбитню, пригожая. Такого питья по всей Москве не сыскать. Окажи милость, и денег не возьму, — кочетом рассыпался детина, любуясь женкой.
— Спасибо… Спасибо, мил человек. Пойду я.
— Где живешь, пригожая? — увязался за Василисой детина.
Василиса, не оборачиваясь, пошла через густую толпу к Фроловским воротам; обок услышала громкий выкрик:
— Держи, держи крамольника!
По толпе зашныряли стрельцы.
— К Ветошному ряду побег! Царя Василия воровскими словами хулил, бунташное рыло! — заверещал истец-соглядник, приведший стрельцов.
Служилые ринулись к Ветошному ряду. Кто-то из посадчан столкнулся с зазевавшимся сбитенщиком; ендова грянулась оземь. Детина, позабыв о красе-женке, полез в драку.
Василиса, миновав Фроловские ворота, вошла в Кремль. Здесь тише и благочинней, всюду разъезжают конные стрельцы. Людской гул доносится лишь с Ивановской площади, где зычные бирючи оглашают царевы указы, а дюжие каты секут и рубят государевых преступников.
Но сейчас Василиса не слышит ни глашатаев, ни свиста кнута, ни истошных вскриков лиходеев-крамольников; вся ее всколыхнувшаяся, взбудораженная душа заполнена Иваном.
Вот и пришла весточка, вот и сыскался ее добрый молодец. Хоть бы одним глазком глянуть! Были бы крылья, птицей полетела. Припала бы к груди широкой, молвила:
«Иванушка, любый мой!»
Остановилась вдруг.
«Да что же это я, свята богородица! Мало ли Болотниковых на белом свете. Да и как мог беглый бунташный мужик воеводой стать? То лишь боярам по чину. Вот неразумная!»
Но растревоженное сердце не унять.
Весь день, не находя места, потерянно сновала по избе, чтобы забыться, заглушить в себе навязчивые думы, принималась за дело, но все валилось из рук.
«Иванушка! Сокол ненаглядный… Иванушка», — стучало в голове.
Глава 2
Звень — поляна
Песня-угрюмушка, печалинка девичья, выплеснулась из души:
Туманно красно солнышко, туманно,
Что красного солнышка не видно!
Кручинна красна девица, печальна,
Никто ее кручинушки не знает!
Ни батюшка, ни матушка, ни родные,
Ни белая голубушка сестрица.
Печальна красна девица, печальна!
Не может мила друга позабыть.
Ни денною порою, ни ночною,
Ни утренней зарею, ни вечерней.
В тоске своей возговорит девица:
Я в те поры милого друга забуду,
Когда подломятся мои скоры ноги,
Когда опустятся мои белы руки,
Засыплются глаза мои песками,
Закроются белы груди досками.
Туманно красно солнышко, туманно…
И не день, и не два тоска гложет. Не утерпела, пошла к старой ведунье, открылась.