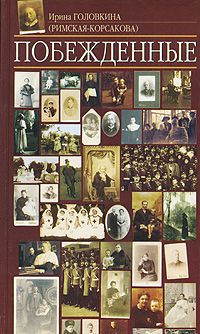Элиза Ожешко - Гибель Иудеи
— Это так же ясно, как ясна вода из Силоамской купели, — сказал Катлас. — Чтобы в этом сомневаться, нужно бы иметь глаза, для того чтобы не видеть, и уши, для того чтобы не слышать. Он, очевидно, желает передаться римлянам.
Какая-то старуха, лежавшая до сих пор на земле, укутанная во что-то черное, услышав эти слова, вскочила на ноги и воскликнула:
— Кто говорит о сдаче римлянам! Кто осмеливается произносить такие слова! Разве храмы уже разрушены? Разве Силоамский источник иссяк? Разве родные матери пожрали своих детей?
Раздался другой женский голос, настолько же робкий и нежный, насколько первый был резок и горделив.
— Матушка, — произнес этот голос, — не вмешивайся в рассуждения мужчин. Их дело разобрать, достаточно ли мы уже настрадались, или нет; тебе не пристало подзадоривать их. Наш слух и без того днем и ночью только и поражают, что клики сражающихся, стоны раненых, вопли умирающих; глаза наши и без того ничего не видят, кроме ран, крови, непохороненных трупов, бледных и изможденных лиц, груд наваленных друг на друга тел, которых топчут ногами, которых наваливают на укрепления и которые служат укрытием сражающимся…
— Замолчи, несчастная! Что тебе, жалкой рабыне, хочется и детей твоих видеть рабами? Если их ожидает такая участь, то пусть они лучше возвратятся к тому ничто, из которого они только что вышли.
— Молчите, женщины! — закричал Катлас, который был мужем одной из них и сыном другой. — А ты, Силас, если увидишь Симона бен Гиору, не забудь сказать ему, что он может рассчитывать на нас и что слезы наших женщин не ослабят нашего мужества.
Слово «измена» переходило из уст в уста. Бен Адир заметил даже, что оно стало произноситься все чаще и чаще по мере того, как они приближались к ставке Бен Гиоры.
Предводитель «непримиримых» занимал со своими войсками большую часть Иерусалима: верхний город, большую стену, господствовавшую над Кедронской долиной, часть старой стены, тянувшейся от Силоамской купели до дворца Монобаза, царя Абухбенов, а также часть нижнего города до дворца Елены, матери Монобаза. Здесь же был и дом Симона, который частью был похож на дворец, частью на цитадель. Цитадель эта была построена на отвесной скале 60 футов вышины, что делало ее недоступной со всех сторон. Скала была облицована белым мрамором, столь гладким и скользким, что по нему нельзя было ни подняться, ни спуститься. Главная башня была окружена стеной, имевшей 80 футов в окружности. По четырем углам стояли четыре другие башни, образуя собою четырехугольник; три из них имели по 80 футов высоты, а четвертая — 120; эта последняя господствовала над горой и двумя долинами уходившими на восток.
Внутренность жилища вполне соответствовала обстановке дворца. Тут были роскошные покои с многочисленными ваннами, с помещениями для женщин, в которых роскошь, заимствованная у римлян, соединялась с роскошью Востока. Здесь когда-то жили и цари Иудеи, и римские губернаторы; здесь было достаточно места для довольно значительного гарнизона.
Для того чтобы добраться до жилища Симона, Бен Адиру и его спутнику пришлось пройти почти сквозь целую армию. Под начальством Симона было более 15 000 человек регулярного войска, и жители Иерусалима и Иудеи, которых он разделил на небольшие отряды в 200 человек каждый, и, кроме того, 5000 идумеян, главными начальниками которых были Солфа бен Иаков и Катлас бен Симон. Вокруг дворца Симона раскинуты были шатры из овечьих или верблюжьих шкур, а пятьдесят палаток из полосатого холста были заняты предводителями. Лагерь этот раскинут был на большом пространстве и спускался по отлогим склонам горы до Тиропейской долины, отделявшей верхний город от нижнего. К шестам, воткнутым в землю около палаток, привязаны были лошади идумеян; рядом с лошадьми лежали на земле верблюды, которым предназначено было вскоре служить пищей для их хозяев. Воины, стоявшие неподвижно с мечами у бедер и с луками и стрелами у ног своих, по-видимому, ждали какой-то команды начальников. Во всем лагере царило мрачное молчание; не было слышно ничего, кроме шагов бдительных часовых, расставленных вокруг лагеря.
Силас был хорошо известен в рядах «ревнителей», к числу которых он принадлежал; всем было известно, что он пользуется доверием Симона. Поэтому его и Бен Адира всюду беспрепятственно пропускали; разве только бросали любопытный взгляд на его спутника. Они прошли через весь лагерь и вскоре были допущены к Симону бен Гиора В ту минуту, когда посланный Ревекки, пройдя по многим и длинным коридорам, входил в сопровождении Силаса в комнату, где был Симон, тот сидел возле мраморного стола, покрытого свертками папируса. Симон казался погруженным в глубокую задумчивость.
Увидев вошедших, он встал и пошел навстречу Силасу, не обращая внимания на Бен Адира.
— Ну, нет ли чего новенького, Силас?
— Да вот, все говорят, что Элеазар готовит измену.
Симон стоял, скрестив руки на блестящих латах. Слова Силаса, казалось, не удивили его.
— Так ты говоришь, что все уверены в измене Элеазара? — сказал он. — Хорошо, допустим, ну а каково же твое мнение, Силас?
— Душа человеческая — потемки, — ответил Силас уверенным голосом, — я не могу читать в душе Элеазара, но я сужу по внешним признакам и невольно пугаюсь. Общий голос обвиняет его, а глас народа — глас Божий. К тому же и прошлое Элеазара таково, что оно вполне оправдывает подозрения. Все признаки, даже в глазах наименее предубежденных людей, говорят против него.
— Но ведь признаки эти могут быть обманчивыми.
— Все же благоразумие заставляет нас принимать их в соображение. Человеку, руководствующемуся благоразумием, приходится часто идти по неудобному и каменистому пути, но все же оно не приведет его к пропасти. Конечно, не мне пристало давать тебе, Симону, советы и напоминать о необходимости быть бдительным и мудрым. Я сказал достаточно, остальное — твое дело.
— Нет, продолжай, Силас, и выскажи мне все, что ты думаешь. Пути праведника верны, а ты — праведник. Слово мудреца может служить поощрением, а ты пользуешься славой мудреца.
— Хорошо, я продолжу… Кому неизвестно, как поступал Элеазар за последнее время? Он всячески добивался верховной власти, он не переставал твердить, что отданная под его начальство армия будет лучшим щитом и мечом Израиля. А теперь он говорит, что дальнейшее сопротивление немыслимо, что оно было бы верхом безумия. Если он не верит в возможность сопротивления, почему же он не отказывается от начальствования? К тому же известно, что именно он велел сжечь запасы. Этого одного было бы достаточно для того, чтобы доказать его преступные замыслы… Мудрец сказал, — продолжал Силас, — «не давай сильным мира сего вина, дабы они не забыли справедливости и интересов бедных». А между тем жизнь Элеазара — беспрерывная оргия; он не приходит в совет иначе, как отуманенный винными парами. Кто же виноват в наших бедствиях? Тот, кто проводит время в пьянстве, а ведь вино — это жалящая змея; оно, подобно змеиному яду, проникает в кровь и отравляет мозг. Чего ждать от того, мысли которого ежедневно тонут в опьяняющей его жидкости? Прежде чем Иоанн из Гишалы переменился, сошедшись с тобою, какое зрелище представляло его войско? Воины его наряжались, причесывались, румянились, точно женщины, и не только старались подражать в своих прическах бесстыдству суетного пола, но даже превосходили их. Их можно было видеть расхаживавшими по нашим улицам медленной и жеманной походкой. Они одеты были в тирский пурпур, а на головах у них были венки из Иерихонских роз. Не верь кутилам, которые говорят: «Давай пить, наряжаться, срывать цветы нашей молодости и увенчивать чело наше розанами прежде, нежели они завянут!» От таких людей прока не будет, они неспособны ни на что великое. Не надушенным рукам сломить тирана, не им завоевать и сохранить за собою обетованную землю!
Симон слушал его молча.
— Благодарю тебя, — сказал он наконец, вставая, — ты — добрый советник. Я поразмыслю о том, что ты сказал мне, и постараюсь воспользоваться этим. Мы раздавим голову змее. Но скажи мне, кто этот молодой человек, с которым ты пришел? Без сомнения, это друг, иначе ты не говорил бы так откровенно в его присутствии?
— Я, собственно, не знаю, кто он такой. Его привел ко мне Зеведей. Он сам объяснит тебе все.
— Ну, говори, — сказал Симон, обращаясь к Бен Адиру, — кто ты такой и кто тебя послал?
— Ты узнаешь это, прочитав письмо, — ответил Бен Адир и, подойдя к Симону, вынул из-за пояса письмо Ревекки.
Между тем как Симон читал письмо, Бен Адир наблюдал за ним с тем любопытным и страстным вниманием, с которым он относился ко всему, что касалось его госпожи. Сначала ему показалось, будто какое-то легкое облачко прошло по лицу Гиоры, но затем по губам его скользнула легкая улыбка.
Окончив чтение, Симон оставался несколько мгновений погруженным в задумчивость, затем, взглянув на Бен Адира, ласково сказал: