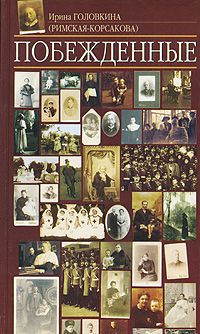Элиза Ожешко - Гибель Иудеи
Пещера, служившая жилищем Зеведею, представляла собою естественное углубление, которое, по всей вероятности, служило гробницей какого-то святого, разрушенной временем. Оно имело сажени две в ширину и сажени три в глубину. Стены и потолок пещеры были в трещинах. Вправо от входа видно было нечто вроде подземного хода, по которому теперь с трудом можно было пробраться ползком. Две грубые скамьи, поднос из кедрового дерева, кувшин воды и несколько стручьев гороху — вот все, что было в пещере. Светильник, поставленный на высокий камень подле костра, освещал ее слабым и тусклым светом.
Трапеза продолжалась недолго, Зеведей первый поднялся со своего места.
— Нам нужно торопиться, — сказал он, — в первом часу мы должны быть у Овчих врат.
Он приблизился к очагу, взял из него несколько пригоршней золы, посыпал ею свою голову и свою седую бороду и захватил из угла толстую палку, похожую на пастушеский посох.
— Ну, прощай, Эсфирь, — сказал он, — я принесу тебе известия о твоей матери и о Симон бен Гиоре. Отдохни хорошенько; ты устала. Когда мы выйдем, завали за нами входное отверстие и помолись за нас Господу Богу. Горе Иерусалиму и его народу!
Затем он пошел вместе с Бен Адиром по узкой и крутой тропинке, по которой тот недавно спустился. Он шел впереди, и оба они хранили глубокое молчание.
Для того, чтобы достигнуть из Вифании до Овечих ворот, через которые Зеведей хотел войти в Иерусалим, нужно было пройти через селение Веррагу, пересечь долину Иосафатову, подняться на Элеонскую гору и перейти через Кедрон. Пророк совершал этот путь ежедневно, и потому он ему был известен в мельчайших подробностях. Несмотря на свой преклонный возраст, он шел впереди быстрой поступью. Бен Адир, подкрепивший свои силы и одушевляемый надеждой вскоре добраться до цели своего путешествия, не отставал от него. Вскоре они дошли до Елеонской горы; здесь они остановились на несколько минут, чтобы перевести дух, перед ними раскинулся священный город.
В ту самую минуту, когда они достигли вершины Елеонской горы, солнце взошло из-за Аравийских гор и осветило своими лучами Мертвое море. Башни, укрепления, дворцы города осветились золотистым светом, а далее, за городом, можно было различить палатки римского лагеря. Пророк стоял неподвижно, с опущенной головой, вытянув правую руку, опираясь левою на свой посох, слезы текли по щекам его. Вдруг он выпрямился.
— Горе Иерусалиму! — воскликнул он громовым голосом, и эхо разнесло эти слова по горам и долам, точно трубный звук.
Бен Адир испугался. Он видел вдали римские палатки и боялся, как бы римляне, услышав этот крик, не схватили их.
Зеведей отгадал его мысли и сказал:
— Не бойся, я друг римлян. Доступ в Иерусалим закрыт для всех, кроме меня!
Вскоре они дошли до Овчих ворот, в которые Зеведей трижды стукнул своим посохом. Какой-то вооруженный человек показался на стене и, узнав пророка, тотчас же спустился, отворил тяжелые ворота из кедрового дерева и впустил старика и его спутника.
— Ты сегодня что-то поздно, Зеведей, — обратился он к пророку. — Уж не встретился ли ты по дороге с римлянами?
— Нет, римляне еще в своих палатках, спят, напившись вина, похищенного из погребов Израиля.
Пока Зеведей говорил, часовой подозрительно оглядывал Бен Адира.
— А это кто такой? — спросил он.
— Тебе нечего так внимательно его рассматривать: он пустил корни среди избранного народа, и тебе нет дела до того, откуда он родом. Я могу лишь сказать тебе, что он прислан сюда к Симону бен Гиоре с важным поручением от одного из наших друзей.
— Если он прибыл к Симону без оружия и с важной вестью, то ворота Иерусалима откроются перед ним, — сказал часовой.
Затем они были впущены в город. Бен Адир, поклонившись в знак благодарности часовому, повернулся было в сторону пророка, чтобы поблагодарить и его, но тот уже куда-то исчез.
IVВ этот день, когда Бен Адир вошел в город, в среде партии сопротивления должен был произойти решительный переворот. Если бы Бен Адир был ближе знаком с положением дел, то он по одному виду улиц догадался бы о том, что готовится что-то необычайное. Для того, чтобы попасть от Овчих врат в ту часть нижнего города, в которой жил Симон, ему пришлось пройти через довольно большой пустырь, отделявший место расположения войск Иоанна и Симона, и по множеству узких и извилистых переулков, шедших от самой ограды храма. Хотя был еще очень ранний час, однако мужчины, женщины и даже дети высыпали на улицы и всюду заметно было возбуждение. По случаи праздника Пасхи население Иерусалима более чем устроилось. Все иногородные не могли разместиться по домам, и потому везде виднелись тысячи палаток, сделанных из холста или из овечьих шкур.
Провожатый Бен Адира, проходя мимо групп разговаривающих о чем-то людей, неоднократно останавливался; его расспрашивали. Иногда и он осведомлялся о ходивших по городу слухах. Посланный Ревекки, убежденный в том, что все происходящее в Иерусалиме должно интересовать его госпожу, жадно присматривался и прислушивался ко всему, что его окружало. Таким образом он узнал, что между защитниками города не было согласия, что образовались уже три партии, что во главе одной стоял Симон бен Гиора, во главе другой — Иоанн Гишала, а во главе третьей — Элеазар, сын Симона, что последний занимал внутреннюю ограду храма, Иоанн — внешнюю, а Симон верхний город и значительную часть нижнего.
В то время как они проходили мимо группы вооруженных людей, сидевших на земле у входа в большую палатку, они вдруг услышали чей-то голос.
— Да, да, он изменяет нам, — сказал один из сидевших.
Силас — так звали проводника Бен Адира — остановился.
— Кто изменяет? — спросил он того, кто произнес эти зловещие слова.
— А, это ты, Силас! Но как же ты можешь спрашивать меня, кто изменяет? Кто же способен на такое преступление, кроме Элеазара, сына Симонова. Если Иоанн Гишала и Симон бен Гиора не соединятся против него — несдобровать священному городу, и мы сделаемся добычей воронов.
— Катлас прав, — вставил свое слово другой. — Элеазар принадлежит к партии первосвященника, а тот вместо того, чтобы явиться первым защитником священного храма, отрекся от своей веры и желает отдаться в рабство. Я его прежде хорошо знал. Элеазара, равно как и его наперстника Захария бен Анфикана, который так же, как и он, из священнического рода. Они оба — волки, забравшиеся в овчарню. Нужно истребить их, если мы сами не желаем умереть.
— Однако Элеазар показал себя с хорошей стороны, — заметил Силас. — Он принес нам большую пользу в первую нашу вылазку против римлян; он столько же благоразумен, как и храбр; у него голова и рука на месте. Ведь это он посоветовал нам держаться сначала в засаде, дать Титу дойти до Псефимонской башни и затем выйти из ворот напротив Еленинской гробницы, около Бабьей башни, с тем чтобы напасть на него с фланга и отрезать его кавалерию. И вы знаете, что его план удался: Тит с небольшой свитой оказался отрезанным от главных своих сил и чуть-чуть не попался в наши руки.
— Да и лев храбр, — ответил тот, которого назвали Катласом, — а все же он животное коварное. Элеазар пристал к нам только для того, чтобы занять первое место; ныне же, обманувшись в своих честолюбивых надеждах, он идет на попятную и уже не подставит свою шкуру римлянам, ручаюсь вам в том: он из породы Иосифов и Ананиев. Дрожжи честолюбия и зависти заставили подняться в его душе тесту измены…
— Если только эти дрожжи не текут из-под пресса, — вставил свое слово один из воинов.
— Ах да, я и забыл тебя спросить, — сказал Катлас, — расскажи-ка нам, Захарий, что тебе известно об этом человеке, которого ты однажды посетил в его берлоге.
— Верно сказано, Катлас, именно берлога, — произнес Захарий, вставая и приближаясь к Силасу. — Симон бен Гиора послал меня с каким-то поручением к этому дикому зверю; я и застал его в его пещере; вокруг него лежали пустые кувшины из-под вина. Когда я вошел, Элеазар лишь с трудом поднялся с кедрового стула, на котором он сидел согнувшись; в руках он держал большую чашу, которую выпил залпом. Некоторые из его друзей, сидевшие вокруг него, последовали его примеру.
— И эти негодяи пьют жертвенное вино, — заметил Катлас. — Для чего же он торопился немедленно по прибытии своем в Иерусалим занять внутренний храм, если не для того, чтобы наложить руку на жертвоприношения.
— То, что я видел, нисколько не опровергает установившуюся за ним репутацию пьяницы, — продолжал Захарий, — и каких же только гнусностей он не совершил, прежде чем присоединить свои силы к нашим! Так, видели, что он поджигал дома, и притом не во время вылазок против римлян, а во время нападений своих на Симона и несмотря на то, что дома эти были переполнены хлебом и другими съестными припасами. Таким образом он уничтожил то, что было приготовлено на время осады и что дало бы нам возможность продлить сопротивление и, быть может, заставить неприятеля снять ее. Поговаривают об измене его, и, по-видимому, не без основания…