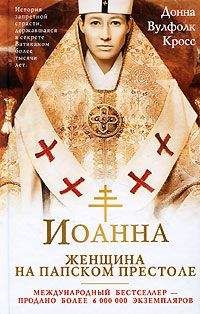Григорий Канович - Огонь и воды
Слышно, как на сковороде домовито шипит подсолнечное масло. Из кухоньки тянет духом жареной картошки. В распахнутое окно струится заря, покрывая небеленые стены и потолок здоровым румянцем.
Приветствуя наступление утра, в конуре не зло, почти застенчиво гавкает Рыжик - полуслепая дворняга Хариных.
- Ну, - спрашивает Зойка, - долго будешь торчать, как пень?
- И отсюда слышно…
- Что слышно? - пучит она свои плутоватые голубые глаза.
- Как твое сердце стучит, - пытаюсь я оправдать свою робость. Да и как тут не робеть: вдруг вернется тетя Аня, войдет в хату…
- Зачем ты врешь? Ты же не Левка. Не нагнулся, не послушал, а повторяешь, как попка-дурак: "стучит, стучит…" - Зойка придвигается ко мне вплотную и выпячивает грудь. - Чем врать, лучше ухо приложи.
- Куда?
- Куда, куда… Хватит дурака валять. Ты что - не знаешь, где у человека сердце? - она с великодушным презрением кладет руку мне на голову и нагибает ее к своему платьицу. - Ты сперва мое послушай, а потом я нагнусь и послушаю твое. И посмотрим, чье стучит громче.
Я отряхиваю с себя оторопь, как выкупанный щенок воду, осторожно прикладываю правое ухо к Зойкиной груди, где из-под дешевого ситца выпирают две уже округлившиеся грушки, и, чувствую, как меня вдруг обдает странным жаром, как вспыхивают волосы, воспламеняется лицо, словно под Зойкиным платьицем дозревают не грушки-дички, а полыхает разведенный кем-то костерок - только прикоснись, и обожжет…
- Слышишь? - допытывается у меня Зойка.
- Слышу. Вроде бы нормально…
- Вроде бы? - кривится она.
- Надо бы еще разок послушать.
- Ишь чего захотел! - отстраняется от меня Зойка. - Хватит и одного. А в школу кто пойдет? А воды кто натаскает?
- А я бы вместо школы… вместо этого…
- Ты чего это заикаешься, как испорченная пластинка? Что вместо этого?
- Слушал бы, как оно стучит… весь день…
- Весь день? Ну, ты и скажешь! Весь день сердце слушать? Да надоест до чертиков.
- Не надоест, - уверяю я и выпячиваю грудь колесом: - Сейчас твоя очередь…
Но Зойка вдруг всплескивает руками и бросается на кухню.
- Ой, - вскрикивает она, - картошка пригорела! Ты будешь с простоквашей?
- С простоквашей, - обиженно отвечаю я и раздуваю, как мама, ноздри. Ах, Зойка, Зойка - отвергла Зойка мое сердце. И ради чего? Ради картошки! Да по мне - гори она гормя…
- Садись! - приказывает Зойка и ставит на стол миску, стакан и крынку с простоквашей.
И вдруг ее прыть и мельтешение мне напомнили старую игру в маму и папу. Еще там, на родине - в Йонаве, я и мои сверстники играли в нее на песчаном откосе на берегу Вилии. Но сейчас в этой незамысловатой сиротской игре, в этом еще целомудренном, но уже небезгрешном подражании взрослым, в невольном повторении их привычек было что-то щемящее и настораживающее. Не было в ней той прежней завораживающей беспечности и озорства; все объяснялось новым опытом - безотцовщиной, горькими насильственными переменами в жизни, обусловленными войной. Ведь и я, и Зойка успели вдоволь хлебнуть лиха: она в этом Богом забытом кишлаке, а я - под бомбежками на беженских дорогах Литвы, в теплушках, битком набитых голодными людьми; в угрюмых очередях за скудной пайкой хлеба и спасительной кружкой кипятка или к зловонным сортирам на узловых станциях, чтобы наспех справить нужду.
- Ешь, - торопила меня Зойка, - а то до твоего прихода тетя Женя всю воду перетаскает. Ты же ей обещал.
- Обещал, обещал… - рассеянно повторял я, подцепляя вилкой драгоценные ломтики картошки. Но в моих ушах почему-то все еще продолжало тикать Зойкино сердце. Казалось, вот-вот выпрыгнет из ее груди, перелетит ко мне, и под моей рубашкой станет одним сердцем больше. Одним сердцем больше стало бы и в груди у Зойки, если бы она погасила старый примус, если бы картошка не пригорела, если бы я не пообещал маме натаскать воды. Да мало ли этих "если бы" на свете…
До школы через огороды было рукой подать. В школьном дворе, у коновязи, учеников обычно встречал буланый мужа Гюльнары Садыковны - Шамиля. Конь спокойно прядал ушами, и они колыхались на юру, как лопухи.
Гюльнара Садыковна и Шамиль жили не в "Тонкаресе", а в соседнем селе, в десяти километрах от колхоза. Шамиль был ссыльным, он не раз обращался в военкомат - просился на фронт, но из сосланных в Казахстан никого в армию не брали. Как все чеченцы, Шамиль был лихим наездником и на своем ухоженном, словно отполированном, рысаке частенько привозил в школу жену. Иногда Жунусова сама вскакивала в седло и, распугивая спустившихся с гор Ала-Тау горных козлов, пускалась вскачь по замершей в тревожном и недобром ожидании степи.
Когда мы с Зойкой вошли в школу, там, кроме Гюльнары Садыковны, никого не было.
- Что это вы так рано? - пропела директриса. - Бессонница замучила?
- Гриша обещал маме помочь - воды натаскать. Ну а я… я с ним за компанию.
- Хороший сын, - похвалила Гюльнара Садыковна. - Я о тебе всему классу расскажу.
- Что расскажете?
- Расскажу, какой ты. Пусть другие пример берут.
- А какой? - слукавил я - очень уж хотелось, чтобы Гюльнара Садыковна еще раз похвалила меня при Зойке.
- Заботливый, славный… Разве неприятно, когда тебя хвалят?
- Приятно, - отозвалась за меня Зойка. - От похвалы даже у кошки хвостик крендельком. Ну что ты молчишь?
- Ты, я вижу, чем-то, Гриша, недоволен? Но разве там, в Литве, твоя мама полы не мыла? Пыль не вытирала?
- Мыла, вытирала, - сказал я. - Но дома, как говорила моя бабушка, и пыль золотом блестит.
- Твоя бабушка - умница, - согласилась директриса.
Мне было больно за маму, и я вовсе не стремился к тому, чтобы всех уверить, что она умеет и кое-что другое делать, а не только махать метлой и макать грязную тряпку в ведро; что там, в Литве, она не ходила с растрепанными седыми волосами, в поношенном фартуке, в кофте с чужого плеча и в дырявых туфлях.
Гюльнару Садыковну, напротив, мое молчание только раззадорило. Ее так и подмывало, как можно больше узнать о нашем прежнем житье-бытье. Но как всякий еврей, я с детства любил больше спрашивать, чем отвечать на вопросы. Если не так спросишь, учили меня домочадцы, беда невелика, но если ответишь не так, то пиши, дружок, пропало.
- Дома и пыль золотом блестит, - восторженно закатила к небу свои черные глаза директриса. - И на метле яблоки растут, так что ли, Гриша?
- Угу, - набычился я, не в силах отличить ее восторг от насмешки.
Гюльнара Садыковна смутилась и с вымученной улыбкой промолвила:
- А твоя бабушка… где она сейчас? Осталась там, с немцами, или…
- С немцами.
- Жаль.
- Они ей уже все равно ничего не сделают. Их живые должны бояться, а мертвым бояться некого. Мертвых хранит Бог.
Гюльнара Садыковна покосилась на меня, поправила птичий хохолок на макушке и шмыгнула в учительскую.
Воспоминание о бабушке на какой-то миг привело меня на кладбище, к надгробному камню, обсаженному молодыми туями, с которых дождливой весной на могилу капали слезы. Оставив Зойку под их капелью, я и отправился искать маму.
Нашел я ее в пустом классе, примыкавшем к учительской. Я поздоровался с ней на идиш и, приблизившись, обнял одной рукой, как обычно обнимал ее отец. Мама вздрогнула и, чтобы не выдать своего волнения, поднялась на стремянку и принялась бережно протирать портрет Сталина.
- Что тебе, кецеле, прошлой ночью снилось? - не оборачиваясь, спросила она на идиш.
Я, конечно, помнил, что мне прошлой ночью снилось, но я никому не любил рассказывать про свои сны.
А снились мне прошлой ночью всякие ужасы. Меня обступали какие-то высокие деревья с вывороченными корнями. Я озирался вокруг, но нигде не было ни зверька, ни мотылька, ни птахи. Только муравьи, крупные, как ягоды калины, несметными полчищами копошились под березами и соснами. В небе мерцали странные красные личинки, похожие скорее на тех же муравьев, чем на звезды. Я один стоял посреди леса и что есть мочи кричал, пытаясь до кого-нибудь докричаться. До кого, я и сам толком не знал. Но крик мой тут же терялся в дремучей чаще, даже слабое эхо, и то не возвращалось обратно. Муравьи взбирались по моей спине, как по сосновым стволам, заползали в рот, в уши, в нос; я завопил от страха и, весь дрожа, проснулся.
- Мне бабушка снилась, - соврал я.