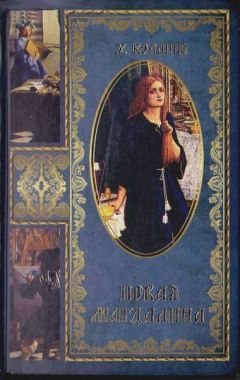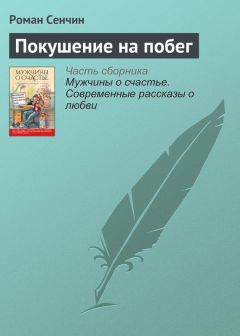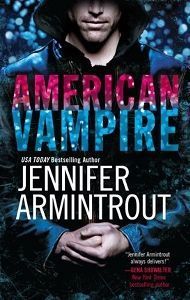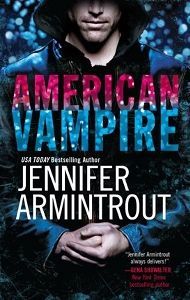Магдалина Дальцева - Так затихает Везувий: Повесть о Кондратии Рылееве
Он глянул на часы и начал бриться. К двенадцати надо быть вместе с Нездецким на завтраке у бывшего эмигранта господина Буассарона. Он долгое время жил в семье Нездецких в качестве гувернера и лишь недавно возвратился на родину…
Завтрак состоялся в ветхом флигельке в глубине запущенного сада, носившем все следы бурных потрясений, перенесенных Францией за недавние годы. Буассарон, последний, уже одряхлевший отпрыск древнего рода Буассаронов, еще не успел вернуть родовое поместье и получить пенсию, обещанную королем. Пока он устраивал свои дела в Париже, приютившись у старого друга маркиза де Руайо, и, чтобы не стеснять его, занял полуразрушенный домик в стороне от хозяев, наслаждаясь сознанием, что все же он живет в пределах Сен-Жерменского предместья и пользуется всем обиходом, принятым в этом аристократическом уголке. За завтраком прислуживал лакей маркиза, в коротких штанах, белых чулках и пудреном парике. Туалет хозяина мало чем отличался от костюма лакея, разве что кафтан был расшит шелками погуще да парик взбит попышнее. Морщинистое лицо Буассарона было необыкновенно подвижно — брови как бы непроизвольно вскидывались, ноздри раздувались, углы губ то скорбно опускались вниз, то складывались в притворно любезную улыбку. Казалось, ему стоило огромных усилий хотя бы изредка придавать себе вид величавого спокойствия, приличествующего его возрасту.
Когда сели за стол, старик, сложив губы ижицей, то есть изобразив самую сладчайшую улыбку, обратился к своему бывшему воспитаннику:
— Дорогой Алексис! Я счастлив, что могу вас принять у себя на родине. Пусть этот дом не мой, но он все же мое обиталище. Я столько лет пользовался гостеприимством ваших родителей и так мало имел надежды отплатить хотя бы одному из членов вашей семьи подобием радушия, что не нахожу слов, чтобы выразить свою радость, — он поднял бокал с золотистым вином и провозгласил: — Я пью за семью, которая помогла мне выдержать все испытания, ниспосланные богом, и дала возможность мне не только окончить свои дни на родине, но и успеть пролить несколько слез на могиле моего отца.
Как говорит! Рылеева всегда восхищала выспренность французской речи. И хотя сам стеснялся изъясняться вслух в таком роде, но наверстывал, берясь за перо. «Как говорит, — думал он, — русский человек сказал бы „поплакать на кладбище“, а тут — „пролить несколько слез на могиле!“ Благородно!»
Тем временем Буассарон с удалью, неожиданной для его хилого тельца, залпом осушил бокал до дна и несколько жеманно, неторопливо вытер губы платком.
Нездецкий, голубоглазый, круглолицый, благовоспитанный, но немного простоватый малый, из тех, что пользуется неизменной благосклонностью начальства благодаря своей доверчивой исполнительности, был заметно смущен этим почти официальным тостом. Однако скоро нашелся и предложил выпить за Францию, которая так радушно и гостеприимно приняла русских воинов. А Рылееву, напротив, нравилась торжественность обстановки, в какой начинался этот день в Париже. Старый шамбертен после второго бокала бросился в голову. Он с искренним воодушевлением прокричал: «Vive la France!» — и почувствовал, что все ему по душе в этой обветшалой комнате. Выгоревшие гобелены на стенах, где солдаты с алебардами, преклонив одно колено, восхищенно взирали на безбровую даму с огромным лбом. Вокруг нее парили вакханки с тирсами. Высокие окна в стрельчатых рамах, похожее на трон кресло, в котором с важностью восседал Буассарон, даже серебряные пряжки на туфлях лакея — все переносило в середину прошлого века, и старина эта ощущалась новизной. А за окном, будто вальсируя, кружились ржавые листья опадающего каштана и бледное солнце пятнало их тенью узорчатые плитки паркета. Безмолвный лакей раскладывал на тарелки цыпленка, окружая каждый кусок листьями салата с такой заботливостью, как будто завтракающим предстояло не есть, а писать маслом этот золотисто-зеленый натюрморт.
— Вы посетили Версаль? — спросил Буассарон Рылеева. — Обычно Версаль приводит в восхищение иностранцев. Более, чем Нотр-Дам и Лувр. Впрочем, Лувр уже разгромили пруссаки и австрийцы. Победители…
Он запнулся, немного смущенно поглядел на русских офицеров и потом, как бы махнув рукой, продолжил:
— Я не хочу, чтобы вы меня заподозрили в неблагодарности к нашим избавителям, и надеюсь, что не обвините в симпатии к Бонапарту. Но ему нельзя отказать в стремлении превратить Париж в сокровищницу мирового искусства.
— И как странно, что враг всего человечества был способен думать об искусстве, — краснея, сказал Рылеев.
За столом он почувствовал себя совсем взрослым, но не был уверен, что покажется таким и своему собеседнику. Та свобода, какую он получил, выйдя из корпуса, свобода бегать по театрам, посещать рестораны, любезничать с Эмилией, была лишь свободой спущенного с цепи щенка, в восторге носящегося по полям и лугам. Сегодня старый аристократ разговаривал с ним на равных. Не ударить бы в грязь лицом.
Буассарон заметно оживился.
— Вы говорите — враг человечества, — вскинул он одну бровь. — Но в нем не было ничего инфернального. Он никого не хотел истребить, никому не мстил, не хотел стирать с лица земли ни одно государство, разве что Испанию за ее непокорность. Он хотел только подчинить. Всех. Честолюбец. Но какой! Грандиозный. Наподобие Александра Македонского или этого, вашего Батыя. Но исполнениям желаний только в сказках нет предела. Нельзя объять необъятное. Выше головы не прыгнешь…
Он уже говорил отрывисто и тихо, как говорят старики сами с собой, ища очки или ключи, и Нездецкий послушно подхватил его мысль:
— И мы его победили!
— Матушка Россия оказалась сильнее, — рассудительно заметил Рылеев.
Буассарон вдруг приободрился, выпрямился, посмотрел на юношей загадочно испытующим взглядом, перевел глаза на лакея, стоявшего за его креслом, и тот, по взмаху бровей понявший приказание, наполнил бокалы.
— Вы ждете от меня тоста во славу России, — сказал Буассарон, — но я не хочу быть неискренним. Я имел много времени, чтобы наблюдать, а еще больше, чтобы размышлять о ней. Хотя и не художник и не геометр, но Россию я представляю в виде образа графического. Россия — конус. В ней все устремлено к вершине. В основании конуса — крестьяне, дворовые люди, солдаты, мастеровые. Над ними лавочники, купцы, мелкие фабриканты. Выше — чиновники, духовенство, над ними придворные. И все венчает царь.
— Но ведь так построено любое государство, где есть монарх, — вырвалось у Рылеева.
— Ошибаетесь. Так устроены только азиатские страны. И как и в них, в России все и вся подчиняется воле монарха. Его взгляду, его вкусу, его капризу. И в этом повиновении есть унизительное равенство. В России водовоз отличается от вельможи только достатком. Оба равно подчиняются лишь одному чувству — страху. Оба равно бесправны, потому что для монарха не существует закона. О, он существует на бумаге. Им даже иногда руководятся чиновники, но самодержец волен пренебречь, отменить его в любую минуту. Страх в России заменяет, вернее, парализует мысль. Страх не создает порядка, а только прикрывает хаос. Русские с удивительным единодушием способствуют этому обману. И тоже из страха.
Он неожиданно снова сделал губами подобие ижицы и, обратившись к Нездецкому, сказал:
— Благодаря любезности ваших родителей я мог давать уроки в домах Куракиных, Кушелевых, Урусовых, Блудовых и других аристократических семействах. Там читали Вольтера, Дидро, д'Аламбера и часами толковали о том, как следует расценивать улыбку государя, как ироническую или одобрительную. Там цитировали параграф американской конституции: «Все люди рождены свободными и равными» — и отправляли слуг на конюшню за малейшую провинность.
— Вы противоречите себе, месье Буассарон, — не выдержал и Нездецкий, — где же тут равенство вельможи и водовоза?
— Ничуть. Я говорю не о равенстве между собой, о равенстве перед волей государя. В европейских странах есть аристократия, которая смеет иметь собственное мнение и, уйдя с государственной службы, не теряет своих преимуществ. Есть третье сословие — самая мыслящая часть населения — адвокаты, учителя, врачи, даже некоторые священники. Они сознают свои права и свое достоинство. Это кипящий котел, его пар в конце концов превращается в пламя, зажигает все вокруг. И измученный угнетением народ видит в них своих пророков, превращает их мысль в грозную силу освобождения.
— И это говорите вы! — воскликнул почти восторженно Рылеев. — Вы, который столько потеряли и столько перенесли в изгнании!
Он был увлечен волнением старика, новизной его речей, и в то же время что-то сопротивлялось в нем, но он не успевал следить за собственными мыслями.