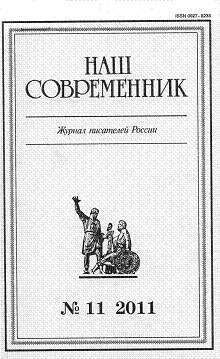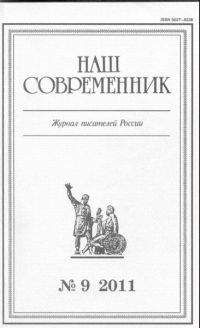Сергей Куняев - «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» (глава 26)
И Николай, также навестивший Ричиотти, говорил о наболевшем. И слушал его молоденький Борис Филистинский, позже оставивший яркую зарисовку поэта, вошедшего в свою золотую пору.
„Лицо умного мужика, но не пахаря, а скорее мастера-умельца, такого сельского плотника-зодчего, что без единого железного гвоздя сможет повы-строить многоглавую церковь в Кижах, или мастера железного или гончарного художества. Очень уж потёрт кафтан и шапка гречневиком, огромный староверский медный крест на груди. Маскарад? Да перед кем ему, Клюеву, сейчас ломать комедь?.. Мы все были одеты — кто во что горазд, и моя, например, толстовка из цветной плотной гардины не привлекала ничьего недоуменного взора. Нет, одёжа Николы Клюева не казалась нам никак — никакой костюмировкой… Вкусный, окающий несколько карельский рот под свисающими усами энергичного унтера. Певучие строки вьются и свисают с колечками крутой махорки…“ Клюев сам никогда не курил, но, видимо, сейчас терпел привыкших к табачному яду. И вещал, слегка растягивая слова.
— Не против города и Запада я, а против разделения китайской стеной духа и материи, души и плоти, мысли и делания. Вот, как у Фёдорова, он ведь кругом прав: коли разделились так у нас труд и мысль, идея и дело, все науки и искусства не хотят друг дружку знать, — то и получается, как говорил он: при таком разделении психология не была душой космологии, то есть была наукой о бессильном разуме, а космология — наукой о неразумной силе. А всё — от злой силы небратства. Искусство, поэзия всё-таки выше пока, чем научное знание: всё-таки говорит о целом и живом, а не о частичном и отгороженном. Но и они начинают атомизироваться. А ведь мир и я — одно: ни я поглощаю мир, ни мир поглощает меня: одно ведь это, и лишь раскрывается как я — не-я — в истории, в моей жизни — ив веках. В любви материнской, в соитии любовном, в блуде и святости, в порождении… — И через много лет, изучая и описывая Клюева, Филистинский (уже под именем „Филиппов“) приводил слова самого Николая Фёдорова, как подтверждение клюевским словам: „…Знание, лишённое чувства, будет знанием причин лишь вообще, а не исследованием причин неродственности, а не проектом восстановления родства…“
… Николай читал „Белую повесть“, а знающие его поэзию могли тут вспомнить строки, которые в этом контексте лишены всякой гордыни:
Я — посвящённый от народа,
На мне великая печать,
И на чело своё природа
Мою прияла благодать…
…— И задача наша, и цель наша — история не как мнимое воскрешение в воспоминании только, а как прямое воскрешение во плоти и в духе всех отцов и матерей наших… — повторял он Фёдорова.
А в следующий раз, встретившись с Филистинским, промолвил, вспомнив злые слова Есенина и многих писавших о нём как о покойнике, промолвил, перекрестившись:
— Было всякое. Всяко и будет. Не в прошлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев задницу мужицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперёд глядим. Вот у Фёдорова, — читал ты его, ась? — „город есть совокупность небратских состояний“. А что ужасней страшной силы небратства, нелюбви?..
И что бы ему так поговорить с Есениным! И что бы Есенину ответить добрым, искренним словом, высказать, что на душе! Так нет же… Перед чужими, фактически чужими, исповедуются, а не друг перед другом.
Знают хорошо друг друга. Знают, кто чем дышал раньше, знают, кто чем дышит ныне. Все слова вроде уже были сказаны. Сказаны, выходит, да не услышаны. Каждый гнёт своё. Вот и сменилась прежняя любовь небратством.
Лев Клейнборт вспоминал, как встретился с Есениным, выходящим из ленинградского отделения Госиздата… Сергей вспомнил свои старые стихи „Теперь любовь моя не та…“ и тут же начал уверять собеседника, что „Клюев уже во втором томе „Песнослова“ погубил свой голос, а теперь он — гроб“. Точь-в-точь книжку Князева только что прочитал… И на ходу пересказывает.
А Клейнборт вспомнил свои встречу с Клюевым, подаренный ему „Четвёртый Рим“ и слова Клюева, что Есенина уже нет, что есть только лишь бродяга, погибающий в толпе собутыльников, изменивший „отчему дому“…
„Это было то же, что доказывал Клюев о нём, — писал позднее Клейнборт. — И тот же был холод. Вот что было пострашнее и его пудры, и его завитых волос… В самом деле, не Мариенгоф, не Шершеневич, не Дункан же дадут ему теплоту, без которой душа вянет, тускнеет, даже душа поэта…“
Ни Мариенгофа, ни Шершеневича, ни Дункан уже рядом не было. Клюев — был. Но от его присутствия было не легче. В Госиздат они пришли вдвоём — за экземплярами „Москвы кабацкой“, вышедшей отнюдь не под маркой Госиздата (дабы издательству не было излишних неприятностей), — самой неприемлемой из всех есенинских книг для Клюева…
Сидя у Оксёнова, Есенин слушал клюевские жалобы: заставляют писать весёлые песни, а это всё равно, как если бы Иоанн Гус плясал трепака на Кёльнском соборе или протопоп Аввакум пел на костре „Интернационал“… А всё Ионов — сволочь…Есенин от своих тяжких дум не мог избавиться — но тут встрепенулся и, словно назло и Клюеву, и себе самому, начал хвалить Троцкого за то, что тот — „националист“, как и он сам, Ионова, который хоть из польских евреев, но нет в нём ничего еврейского. Принялся читать стихи. Начал с „Руси советской“ („И это я! Я — гражданин села, которое лишь тем и будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита…“), продолжил уже только что написанным посвящением Ионову, с которым договаривался о новом издании:
Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь.
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.
И, кожей чувствуя неодобрение молчащего Клюева, заявил, что не желает отражать крестьянские массы, не хочет надевать хомут Сурикова или Спиридона Дрожжина… Бил в самое больное место — ни Суриков, ни Дрожжин никогда не были для Клюева авторитетами, и Есенин прекрасно это знал. Но выходило так, словно Клюев пытался надеть на него этот самый хомут.
В 20-х числах июля Николай уезжал в Вытегру. Провожали его Есенин, Приблудный, Игорь Марков, Павел Медведев и Алексей Чапыгин. Последний воспоминал потом, как они с Есениным „по темноте… вышли… на Воскресенскую набережную за Литейным проспектом. Отыскали пароход и каюту, но Клюева ещё не было. С. А. сказал.
— Пойдём в буфет и выпьем!…
С. А. сказал, что уезжает ненадолго в Москву, а оттуда на Кавказ. На пароход пришёл Клюев — мы сидели в его каюте, потом пошли по Литейному мосту и к Летнему саду. С. А. повёл нас на летнюю пристань в буфет. Было уже поздно — я простился, не пошёл на пристань. Они остались сидеть вдвоём. После, когда вернулся из Вытегры Клюев, я спрашивал его, как они провели время.
— Хорошо! Серёжа много читал хороших стихов, пили немного“.
Расстались они всё же не так благостно.
Когда Есенин встретился один на один с Клейнбортом и тот спросил у него — виделся ли он с Клюевым — Сергей опустил голову, задумался, а потом вымолвил с сожалением в голосе:
— Да… Бывают счастливцы.
В „счастливцы“ зачислил Николая — есть у того на что опереться, чего нет уже у Есенина, „в родной стране иностранца“… И есть же у этого „иностранца“ то, чего нет у Клюева: „коммуной вздыбленная Русь“. А клюевский „красный государь Коммуны“ мхом давно порос…
Клюев же писал из Вытегры тёще Николая Архипова, Пелагее Васильевне Соколовой:
„От тихих богородичных вод, с ясных, богатых нищетой берегов, от чаек, гагар и рыбьего солнца — поклон вам, дорогие мои! Вот уже три недели живу как во сне, переходя и возносясь от жизни к жизни. Глубоко-молчаливо и веще кругом. Так бывает после великой родительской панихиды… Что-то драгоценное и невозвратное похоронено деревней — оттого глубокое утро почило на всём — на хомуте, корове, избе и ребёнке. Со мной беленький, как сметана, Васятка, у него любимая игрушка лодка, возит он меня на окуний клёв по богородичным водам к Боровому носу, где живёт и, не мучаясь ясно, двенадцатый век, льняная белизна и сосновая празелень с киноварью и ладаном. Господи, как священно-прекрасна Россия, и как жалки и ничтожны все слова и представления о ней, каких наслушался я в эту зиму в Питере! Особенно меня поразило и наполнило острой жалостью последнее свидание с Есениным, его скрежет зубовный на Премудрость и Свет. Об этом свидании расспросите Игоря — он был свидетелем пожара есенинских кораблей. Но и Есенин с его искусством, и я со своими стихами так малы и низко-презренны перед правдой прозрачной, непроглядно-всебытной, живой и прекрасной. Был у преподобного Макария — поставил свечу перед чудным его образом — поплакал за вас и за себя, сегодня ухожу в Андомскую гору к Спасу, чтоб поклониться Золотому Спасову лику — Онегу, его глубинным святыням и снам…“