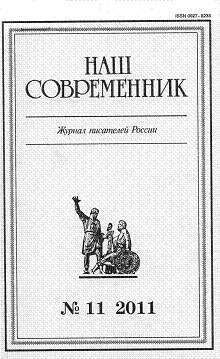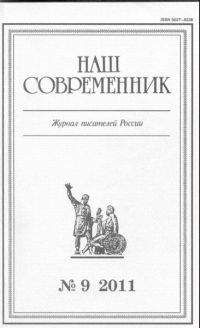Сергей Куняев - «Ты, жгучий отпрыск Аввакума...» (глава 26)
…Сидя у Иннокентия Оксёнова, Есенин рвался читать Языкова… В контексте разговора, где он жаловался, что чувствует себя в России как в чужой стране, а за границей было ещё хуже, что «Россия расчленена», и это больно осознавать любому великороссу — нетрудно предположить, что очень хотелось Сергею прочесть вслух для себя и для окружающих знаменитое языковское «К не нашим».
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство…
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Ближе, ближе он был в своих душевных сопереживаниях Клюеву, чем сам хотел в этом признаться даже самому себе… И чем больше чувствовал он это — тем демонстративно пытался от Клюева оттолкнуться, Клюеву поперечить, особенно на людях.
Уехал. И вернулся в Ленинград в середине июня, предварительно написав Николаю о своём приезде.
* * *«Ленин» Клюева — образец того, что получается, когда Клюевы берутся за такие темы, которых они не могут понять. «Ленин» у Клюева своеобразный. Это и «красный олень в новобрачном сказаньи», и сын богоматери, «он мычит Ниагарой в ноздрях Ливерпуль».
Во всяком случае это не тот Ленин, которого мы знаем и любим. У Клюева это не Ленин, а Антиленин, как сказал о книжке Клюева тов. Троцкий.
Может быть, по Госиздату Клюев даёт своеобразное толкование «Ильича», может быть, уже хорошо то, что пишет о Ленине, может, это революция в Клюеве. Но нам эта книжка не нужна, не понятна и рекомендовать её, конечно, нельзя…
Читать это «творение» Александра Исбаха в «Книгоноше» было уже делом привычным. Не он один вещал о «ненужности» и «непонятности» Клюева. Но слушать подобные же речи от дорогого по-прежнему и ставшего таким чужим Серёженьки…
Появился Есенин — и на следующее же утро отправился к Клюеву. Через несколько лет Николай нехотя рассказывал об этом свидании Анатолию Яру-Кравченко с интонациями «Бесовской басни про Есенина».
— Я растоплял печку. Кто-то вошёл. Я думал, что Коленька (Архипов, переехавший к этому времени в Ленинград и часто видевшийся с Клюевым — С. К.), гляжу— Есенин, в модном пальто, затянут в талию. Поверх шарф шёлковый… Весь с иголочки, накрашен, одним словом, такой, каких держут проститутки…
— Ну что же, расцеловались?
— Да, конечно. Он удивился, что я такой же, а он себя растерял…
Есенин, конечно не считал себя «растерявшим». Скорее, о Клюеве полагал, как о «закосневшем».
Как вспоминал новый знакомый Николая Игорь Марков — «поэт появился как-то неожиданно, оживлённый, с улыбающимися серо-голубыми глазами и чуть рассыпавшимися волосами. После приветствий и первых радостей встречи между давними друзьями возник спор, такой же внезапный, каким было появление Есенина в тесной комнате на Морской».
А для них обоих не было ничего «внезапного» — продолжился разговор, начатый ещё в Москве, где ничем закончилась есенинская затея собрать заново, «в семью едину», «крестьянскую купницу». Николай, глядя на модный костюм Сергея, напомнил ему, словно кто за язык дёрнул, строки из «Четвёртого Рима»: «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу…» Есенин побелел от злости. И бросил в ответ, потом прочно к Клюеву прилипшее:
— Ладожский дьячок!
Поперхнулся Николай… Тут же пришёл в себя и снова пытался читать самое язвительное из старой поэмы. И снова оборвал Есенин:
— Прекрати! Брось своё поповство! Кому это сейчас нужно?
«А ведь тебе было когда-то нужно, Серёженька! Льнул, как к горнему ключу. И что же с тобой стало?»
А Серёженька уже тяжело пережил внезапную смерть Ширяевца. Поминки по нему вылились у многих в пьяную истерику, но что-то страшное, тревожное, отчаянное слышалось в перекрывающем всё и вся есенинском голосе, когда поэт кричал, что пропала деревня, что из неё вытравливается всё русское. В ответ раздалось: «Цела деревня! Цел русский народ!» «Нет! — отвечал Есенин. — Гибнет деревня», и слышал: «Это наше время. И нет нашему творчеству никаких помех». «Есть, — снова кричал Есенин. — Город, город проклятый…», и, уже уходя, слышал, как кто-то затянул «Вечную память», которую заглушили «Интернационалом».
С разорванной душой приехал. Но с Клюевым так по душам и не поговорил.
…Отправились обедать к Сахарову, у которого Есенин остановился… Завели речь об антологии крестьянской поэзии — Сергей всё никак не мог расстаться с этой мыслью «объединения», хоть под разовой обложкой… И читали стихи — каждый читал предназначенное для этой антологии. Клюев — старое, любимое некогда «отроком вербным»… «Умерла мама» — два шелестных слова. Умер подойник с чумазым горшком, Плачется кот и понура корова, смерть постигая звериным умом… «Мама в раю — запоёт веретёнце, — нянюшкой светлой младенцу Христу…» Как бы в стихи, золотые, как солнце, впрясть волхованье и песенку ту?.. «И словно в контраст с прочитанным — своё громоподобное „Меня Распутиным назвали…“, когда с особым нажимом для собравшихся прозвучало: „Что миллионы чарых Гришек за мной в поэзию идут…“ Есенин же читал одно из последних своих стихотворений — тех, что Клюев на дух не принимал… „Не храпи, запоздалая тройка! Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда…“ Не принимать — не принимал, а Сергей, зная это, будто подчёркивал свою „непропащесть“: „Может, завтра совсем по-другому я уйду, исцелённый навек, слушать песни дождей и черёмух, чем здоровый живёт человек…“ Каждый вкладывал в чтение своё, должное быть понятым „старым другом“… Игорь Марков прочёл сказку-наигрыш „Колобок-скакунок“, и Клюев посоветовал изменить конец — и продиктовал, как именно… Тут-то и ввалились ленинградские „имажинисты“ Эрлих со Шмерельсоном и наперебой начали заявлять, что идея никчёмная и несовременная… Смотрел-смотрел Клюев на есенинских „гришек“, — один из них, не выходя в дверь, спустился по водосточной трубе — спичек купить — дождался, когда уйдут, и спросил Сергея в лоб: „Почему не можешь расстаться с ними?“ А Есенин в ответ лишь ухмыльнулся:
— А кто ж за спичками бегать будет?
Расстаться-то он с ними — уж давно расстался. И когда ему в этот приезд Садофьев напомнил об имажинистском бытии — от досады аж прикинулся непонимающим: „Имажинизм? А разве был такой? Я и думать о нём забыл…“ И рассердился вконец: „Ну да, было время… Озорничали мы в своё удовольствие… Мещанство били в морду, образом хлестали… Дым коромыслом стоял… А кому он сейчас нужен, этот имажинизм? Чушь всё это собачья! Скатертью ему дорога!.. У них вся их образность от городской сутолоки, у меня — от родной Рязанщины, от природы русской. Они выдохлись в своём железобетоне, а мне на мой век всего хватит…“
Сидя в доме у ещё одного ленинградского представителя „воинствующего ордена имажинистов“ Лёни Турутовича, писавшего под псевдонимом „Владимир Ричиотти“, Есенин, по воспоминаниям последнего „светился покоем и вдохновением“ и говорил с каким-то душевным подъёмом:
— У меня и слава, и деньги, все хотят общения со мною, им лестно, что я в чужом обществе теряюсь и только для храбрости пью… Быть может, в стихах я такой скандалист потому, что в жизни я труслив и нежен… Я верю всем людям, даже и себе верю. Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь, быть может, потому я и захлёбываюсь песней, что жизнь с её окружающими людьми так хорошо меня приняла и так лелеет. Я часто думаю: как было бы прекрасно, если бы всех поэтов любили так же, как и меня… Теперь я понял, чем я силён — у меня дьявольски выдержанный характер…
Клюев не слышал подобных есенинских слов. И в общении с ним Есенин теперь шёл скорее на конфликт, чем на согласие. И „выдержанность характера“ куда-то мгновенно улетучивалась.
И Николай, также навестивший Ричиотти, говорил о наболевшем. И слушал его молоденький Борис Филистинский, позже оставивший яркую зарисовку поэта, вошедшего в свою золотую пору.
„Лицо умного мужика, но не пахаря, а скорее мастера-умельца, такого сельского плотника-зодчего, что без единого железного гвоздя сможет повы-строить многоглавую церковь в Кижах, или мастера железного или гончарного художества. Очень уж потёрт кафтан и шапка гречневиком, огромный староверский медный крест на груди. Маскарад? Да перед кем ему, Клюеву, сейчас ломать комедь?.. Мы все были одеты — кто во что горазд, и моя, например, толстовка из цветной плотной гардины не привлекала ничьего недоуменного взора. Нет, одёжа Николы Клюева не казалась нам никак — никакой костюмировкой… Вкусный, окающий несколько карельский рот под свисающими усами энергичного унтера. Певучие строки вьются и свисают с колечками крутой махорки…“ Клюев сам никогда не курил, но, видимо, сейчас терпел привыкших к табачному яду. И вещал, слегка растягивая слова.