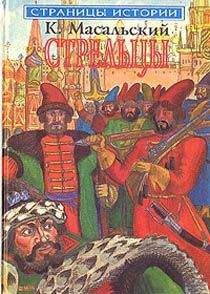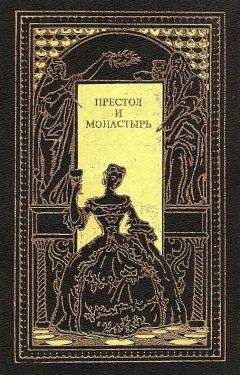Константин Масальский - Стрельцы
— Как так? Я что-то этого в толк не возьму.
— Все дело в том, что дочь попадьи теперь отдана приказом в холопство нашему боярину. Понимаешь ли?
— Разумею. Сиречь она с нами стала одного поля ягода?
— Нет, брат, погоди! Боярин-то давно на нее зарился. Жениться он на ней не женится, а полубоярыней-то она будет. Понимаешь ли?
— Разумею. Сиречь она с нами, холопами, водиться не станет.
— Экой тетерев! Совсем не то. Ну, да что с тобой теперь толковать! Сам ее завтра увидишь. Боярин, слышь ты, велел привести ее к нему в ночь, чтобы шуму и гаму на улице не наделать. Ведь станет плакать да вопить, окаянная. Она теперь в гостях у тетки, да не минует наших рук. Около дома на всю ночь поставлены сторожа с дубинами, да решеточный приказчик в соседней избе укрывается. Не уйдет голубушка! Дом ее тетки неподалеку… Тьфу пропасть! опять ты задремал. Нет, полно. Пора спать. Завтра ведь до петухов надо подняться.
Окно затворилось, и огонь погас. Выслушав весь разговор, Бурмистров встал со скамьи и поспешил возвратиться домой.
IV
И смотрит вдаль, и ждет с тоской…
«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта черной мглой:
Нейдет, нейдет спаситель!
Ж у к о в с к и й.— Вставай, Борисов! — сказал Василий, войдя в свою горницу, освещенную одною лампадою, которая горела перед образом. — Как заспался! Ничего не слышит. Эй, товарищ! — С этими словами он потряс за плечо Борисова, который спал на скамье подле стола, положив под голову свернутый опашень.[15]
Борисов потянулся, потер глаза и сел на скамью. — Уж оттуда не вылезет! — пробормотал он.
— Что такое ты говоришь?
— Так и полетел в омут вниз головами!
— Ты бредишь, я вижу. Опомнись скорее да надевай саблю: нам надо идти.
— Идти? Куда идти?.. Ах, это ты, Василий Петрович. Куда это запропастился? Я ждал, ждал тебя, да и вздремнул со скуки. Какой мне страшный и чудный сон привиделся!
— После расскажешь, а теперь поскорее пойдем!
— Ночью-то! Да куда нам идти? Домовых, что ли, пугать?
— Не хочешь, так я один пойду. Эй! Гришка!
Вошел одетый в овчинный полушубок слуга с длинною бородою.
— Беги в первую съезжую избу и позови десятерых из моих молодцов. Скажи, чтоб взяли сабли и ружья с собою! Проворнее! Да вели Федьке заложить вороную в одноколку.
— Куда ты сбираешься? — спросил удивленный Борисов. — Вдруг вздумал ехать, да еще и в одноколке! Разве ты забыл царский указ?[16]
— Не забыл, да в указе про ночь ничего не сказано, и притом никто меня не увидит. Немец Бауман подарил мне одноколку за два дня до указа, и я ни разу еще в ней не езжал. Хочется хоть раз прокатиться.
— Ты, верно, шутишь, Василий Петрович!
Василий, в ожидании стрельцов ходя большими шагами взад и вперед по горнице, рассказал Борисову цель своего ночного похода.
— И я с тобой! Куда ты, туда и я. В огонь и в воду готов! Только смотри, чтоб нам не досталось. С Милославским-то шутить не с своим братом.
— Если трусишь, так останься!
— Не к тому мое слово, Василий Петрович! Мне не своей головы, а твоей жаль. Я люблю тебя, как отца родного. Никогда твою хлеб-соль не позабуду. Безродного ты приютил меня, словно брата родного, и вывел в люди.
— Ну полно! Что толковать об этом! Лучше расскажи что тебе приснилось? Ты говорил, что видел во сне что-то страшное?
— Да, чудный сон! Он что-нибудь да предвещает недоброе. Снилось мне, что мы с тобой стоим на высокой горе. С одной стороны видим долину, да такую долину, что вот так бы и спрыгнул туда! Рай эдемский! С другой стороны гора как ножом срезана. Крутизна — взглянуть страшно, а внизу такой омут, что дна не видать. Смотрим: летит из долины белая голубка. Она села к тебе на плечо. Вдруг с той стороны, где был виден омут, лезет на гору медведь, а за ним скачут, словно лягушки — наше место свято! — восемь бесов, ни дать ни взять, как на нашем главном знамени, на котором Страшный Суд изображен. Медведь прямо бросился на тебя, повалил на землю и потащил к омуту, а голубка вспорхнула, начала над тобой виться и жалобно заворковала. Ты с медведем барахтаешься. Я было бросился к тебе на подмогу, ан вдруг бесы схватили меня, да и не пускают. Мне так стало горько, так душно, что и наяву, я чай, легче на петле висеть, а лукавые начали вокруг меня плясать и кричать: — Здравствуй, брат! Знаешь ли ты нас? Ступай к нам в гости! Давай пировать! — Я хотел было сотворить крестное знамение и молитву «Да воскреснет Бог!», но окаянные схватили меня за руку и зажали мне рот. Вдруг из долины бежит на гору лев, ну вот точь-в-точь такой, как на картинке, которую подарил тебе начальник наш, князь Михайло Юрьевич. Лев напал на медведя; но бесы завыли, как псы перед пожаром, кинулись на льва и бросили его в омут. Там кто-то громко захохотал совсем не человеческим голосом. Меня подрал мороз по коже. Вдруг в небе появилось над долиной белое облако, а из него лучи во все стороны так и сияют! Солнышко от них побледнело и стало похоже на серебряную тарелку, которую только что принесли в горницу из холодного погреба. Под белым облаком что-то зачернелось. Ближе, ближе! Глядим: летит орел о двух головах. Над самой верхушкой горы остановился и начал спускаться. Крылья такие, что целый полк прикроет! Голубка села опять к тебе на плечо, а медведь и бесы сбежались в кучку и смотрят на орла. И вдруг обернулись они в какого-то страшного зверя с семью головами. Орел схватил его в когти, взвился и опустил в омут. В это самое время ты меня разбудил.
— Ну, а что сделалось с голубкой? — спросил Василий.
— Не знаю. Как бы ты не разбудил меня, так я бы посмотрел.
На лестнице послышался шум шагов. Двери отворились, и вошли десять вооруженных стрельцов.
— Ребята! — сказал Василий. — Есть у меня просьба до вас. Один боярин обманом закабалил бедную сироту, единственную дочь у старухи-матери. В нынешнюю ночь хочет он взять ее силой к себе во двор. Надобно ее отстоять. Каждому из вас будет по десяти серебряных копеек за работу.
— Благодарствуем твоей милости! — закричали стрельцы. — Рады тебе служить всегда верой и правдой!
— Только смотрите, ребята! Никому ни полслова.
— Не опасайся, Василий Петрович! И пыткой у нас слова не вымучат!
— Я полагаюсь на вас. За мной, ребята!
Василий, сойдя с лестницы, сел с Борисовым в одноколку и выехал со двора на улицу. — Если кто меня спросит, Гришка, — сказал он слуге, — то говори, что меня потребовал к себе князь Долгорукой.
Он пошевелил вожжами и поехал шагом, для того, чтобы шедшие за ним стрельцы не отстали. В некотором расстоянии от дома Смирновой он остановился и вышел из одноколки, приказав Борисову и стрельцам дожидаться его на этом месте. Подойдя к воротам, он постучался в калитку. Залаяла на дворе собака; но калитка не отпирается. Между тем при свете месяца приметил он, что из ворот дома Милославского вышли три человека в татарских полукафтаньях и шапках. У каждого был за спиною колчан со стрелами, а в руке большой лук.[17] В нетерпении начал он стучать в калитку ножнами сабли.
— Кто там? — раздался на дворе грубый голос.
— Отпирай.
— Не отопру. Скажи прежде, наш или не наш?
— Отпирай, говорят! Не то калитку вышибу!
— А я тебя дубиной по лбу, да с цепи собаку спущу. Много ли вас? Погодите! Вот ужо вас объезжие! Они сейчас только проехали и скоро вернутся! Вздумали разбойничать на Москве-реке! Шли бы в глухой переулок!
— Дурачина! Какой я разбойник! Я знакомец вдовы Смирновой. Мне до нее крайняя нужда.
— Не морочь, брат! Что за нужда ночью до старухи? Убирайся подобру-поздорову, покамест объезжие не наехали. Худо будет! Да и хозяйки нет дома.
— Скажи по крайней мере, где она?
— Не скажу-ста. Да чу! Никак объезжие едут. Улепетывай, пока цел!
В самом деле раздался вдали конский топот. Легко вообразить себе положение Бурмистрова. Не зная, где живет тетка Натальи, он хотел спросить о том у вдовы Смирновой и сказать ей о своем намерении. А теперь он не знал, на что решиться. Выломить калитку и принудить дворника сказать, где хозяйка или дочь ее — невозможно; шум мог разбудить людей в доме Милославского и все дело испортить. Притом угрожало приближение объезжих. Гнаться за вышедшими из ворот людьми Милославского — также невозможно; они давно уже переехали Москву-реку и оставили лодку у другого берега. Бежать к мосту — слишком далеко; потеряешь много времени, и притом как попасть на след этих людей? Оставалось возвратиться домой и успокоить себя тем, что употреблены были все средства для исполнения доброго, но невозможного намерения. Василий почти уже решился на последнее и пошел поспешно к своей одноколке; но какой-то внутренний, тайный голос твердил ему: действуй! Лицо его пылало от сильного душевного волнения, и он дивился: почему он с таким усердием старается защитить от утеснителя девушку, никогда им не виданную и известную ему по одним только рассказам. Он сел в одноколку.