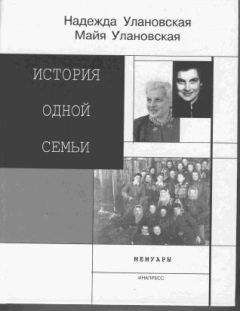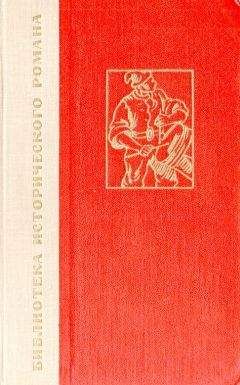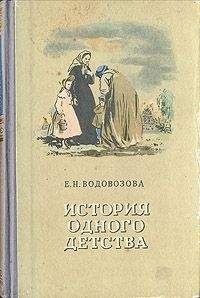Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
Наведя порядок, герцоги послали своих любезных и горячо любимых пфальцбуржцев «восстанавливать и чинить городской вал, на постройку — из тесаных камней и целых глыб — двух ворот у немецкой и французской застав, на рытье рвов, на сооружение общинного дома, предназначенного для судебных заседаний, на возведение церкви, дабы наставить там верующих, а также дома для священника, поближе к новой церкви, дабы он мог наблюдать за своей паствою, и, наконец, на постройку рынка, дабы облагать там товары налогом и взимать пошлины». Засим служители его светлости по своему усмотрению установили права и обязанности, барщину и оброки: и бедные люди впряглись в ярмо и работали так из поколения в поколение, с 1583 по 1789 год, на герцогов лотарингских и королей французских, поверив посулам Георга Иоганна Вельденцкого, отъявленного мошенника, каких на свете немало.
Герцоги учредили также в Пфальцбурге, с помощью жалованных грамот, множество корпораций — своего рода объединений собратьев по ремеслу, которые задались целью воспрепятствовать всем прочим заниматься их делом и, таким образом, без помех обдирали народ сами.
Ремеслу учились четыре, а то и пять лет, Ученик вынужден был щедро платить мастеру, чтобы его допустили к ремеслу, а затем, получив за отлично сработанную вещь свидетельство мастера, сам начинал помыкать людьми так же, как до того помыкали им.
Не представляйте себе город таким, каким он стал в наши дни. Разумеется, расположение улиц и каменные постройки не изменились, но в те времена вы бы не нашли ни единого крашеного дома, они были просто обмазаны известью, и во всех виднелись небольшие сводчатые окна и двери; под низкими сводами за слюдяными оконницами часто, бывало, заметишь портного — сидит, скрестив ноги на столе, кроит сукно либо делает стежки иголкой, а по соседству работает ткач, и в полутьме под его руками снует челнок.
Гарнизонные солдаты в огромных треуголках, белых поношенных мундирах, свисавших до самых пят, были горемычнее всех: ели они всего-навсего раз в день; кухари и кашевары христарадничали по дворам, выпрашивая объедки для этой голодной братии. Так было еще за несколько лет до революции.
Народ изголодался, устал; одно-единственное платье по наследству переходило от бабушки к внучке, а башмаки — от деда к внуку.
Улицы немощеные, по ночам — ни одного фонари; на крышах нет водосточных желобов; оконца с выбитыми стеклами вот уже лет двадцать залеплены клочками бумаги. А среди этой безысходной нищеты шествует и поднимается по лестнице в мэрию прево в круглой черной шапочке, молодые дворяне-офицерики щеголяют в изящных треуголках, белоснежных мундирах с саблею на перевязи, красноносые капуцины с грязными длинными бородами в рясах из грубой шерсти, без рубах, валом валят в монастырь, где в наши дни помещается коллеж… Все это встает в памяти, будто вчера было, и я мысленно восклицаю: «Какое же счастье для нас, бедняков, особенно для крестьян, что пришла революция!» Да, если в городе царила безысходная нищета, то что говорить о деревне! Там творилось нечто совсем невообразимое. Крестьяне несли то же бремя, что и горожане, а вдобавок на их долю выпадали еще и свои собственные тяготы. В каждом лотарингском селении существовала помещичья или монастырская усадьба. И все тучные земли принадлежали ей, а скудные доставались людям обездоленным.
Горемыки крестьяне не смели посадить на своей земле что хотели; луга должны были оставаться лугами, пашни — пашнями. Отведет крестьянин пашню под луг — значит, лишит кюре десятины; отведет луг под пашню — значит, урежет выгон для скота; засеет он клевер на пару, а запретить помещичьему или монастырскому стаду пастись не имеет права. Земли его были отягчены плодовыми деревьями, которые ежегодно отдавались в пользование сеньору или аббатству. Деревья он не имел права вырубать и даже в течение года обязан был заменять те, что засохли. Тень от деревьев, убытки, которые он терпел при сборе плодов, пни да корни, мешавшие возделывать землю, — все это наносило ему большой ущерб.
И вдобавок сеньоры имели право охотиться повсюду: они скакали по пажитям, топча сжатый хлеб, в любое время года уничтожали урожай на полях. Зато случись, бывало, крестьянину подстрелить дичь даже на собственном поле — и ему грозили галеры.
Кроме того, сеньор и аббатство имели право пасти скот отдельно, а это означало, что их скот выгонялся на пастбище часом раньше деревенского, крестьянской скотине оставались одни объедки, и она хирела.
Помещичьи и монастырские усадьбы к тому же имели право на голубятни, и несметные стаи голубей слетались на поля. Приходилось сеять вдвойне конопли, вдвойне гороха, вдвойне вики, чтобы собрать урожай.
Ко всему в придачу отец семейства обязан был в течение года отдавать сеньору пятнадцать четвериков овса, десять цыплят, две дюжины яиц. Он был обязан три дня отработать на своего господина за себя, по три дня за каждого своего сына или батрака и на три дня отдавать сеньору лошадь или телегу. Он был обязан выкосить траву вокруг замка, просушить ее и свезти сено по первому звону колокола в господский сеновал, причем за малейшее промедление взималось по пяти грошей штрафа. Он был обязан также возить камни и лес, нужные для починки хозяйственных построек или замка. За целый день работы господин выдавал ему на обед ломоть черствого хлеба и зубок чеснока.
Все это и называлось барщиной.
А если б я рассказал вам еще о господской мельнице, господской хлебопекарне, господской давильне, которыми народ был обязан пользоваться и, само собой понятно, за денежный взнос молоть зерно, печь хлеб, давить виноград; добавил бы к этому еще и то, что палач имел право на шкуру издохшего крестьянского скота; упомянул, наконец, и о десятине, а это было самым тяжким бременем, ибо каждый одиннадцатый сноп приходилось отдавать кюре, хотя крестьянин и без того кормил целую ораву монахов, каноников, кармелитов и нищенствующих монахов всех орденов, — да если б я вздумал рассказать вам обо всех этих повинностях и о куче других, лежавших на поселянах, конца не было бы перечню.
Право же, можно подумать, что сеньоры и духовенство словно решили истребить горемык крестьян и всеми средствами добивались этого.
Но и этим дело не ограничивалось.
Мы гнули спину, пока наш край находился в безраздельной власти герцогов, под бременем прав его светлости, сеньоров, аббатов, приоров, женских и мужских монастырей. После же смерти Станислава[23] и присоединения Лотарингии к Франции прибавилась еще и королевская талья, а это означало, что глава семьи обязан был платить двенадцать су с каждого ребенка и столько же с батрака. К этому присоединялась денежная дань королю — налог на домашний скарб, двадцатая доля королю, а это означало двадцатую долю чистого дохода от урожая. Налог этот взимался только с крестьянина, потому как ни дворяне, ни церковники не платили двадцатой доли. Упомянем и об откупах на соль и табак, от налогов на которые помещики и духовные лица тоже были освобождены; о королевской соляной монополии или о косвенных налогах.
Вот если бы князья, дворяне, монахи да монахини, которые веками владели лучшими землями, принуждая многострадальных крестьян возделывать поля, сеять и собирать для них урожай да вдобавок еще облагая их повинностями, податями и всяческими налогами; так вот, если б они употребляли все эти богатства хотя бы на проведение дорог, рытье каналов, осушение болот, удобрение земель, постройку школ, больниц, было бы еще полбеды, но ведь они швыряли деньги на развлечения, на утехи — и спесь и алчность их все росли. Жил в те времена в Саверне кардинал Луи де Роган[24], известный распутник, называемый «князем церкви». Он измывался над порядочными людьми и, когда ехал в карете, приказывал лакеям избивать крестьян, попадавшихся ему на глаза. В Невиле, в Буквиле, в Гильдесгаузене дворяне развели фазаньи дворы, оранжереи, теплицы, на протяжении полулье разбили роскошные сады с мраморными вазами, статуями и водометами — на манер Версальского парка. Непотребные девки в шелках разгуливали со знатными повесами на глазах бедного люда, босоногие кармелиты, кордельеры, капуцины бродили шайками, зубоскалили и попрошайничали с первого дня нового года до дня св. Сильвестра. Да, тяжело становилось на душе, как увидишь, бывало, всех этих бальи, прево, сенешалов, нотариусов и всякого рода судейских, помышляющих только о взятках и о том, как бы поживиться на счет государственных поборов да на штрафах. А еще тягостнее было оттого, что крестьянские сыновья поддерживали всех этих кровопийц против своих родных, друзей и против самих себя.
Попав в полк, крестьянские парни забывали нищету родных деревень; забывали о матерях и сестрах; признавали лишь своих офицеров и полковников: ради дворян, купивших их, они готовы были разорить отчий край, говоря, что поддерживают честь знамени. Однако ж никому из них не суждено было стать офицером[25]: ведь «подлая чернь» недостойна была носить эполеты! А получив увечье на войне, они получали лишь право на подаяние! Люди поизворотливей, засев где-нибудь в кабаке, старались завербовать рекрутов за определенную мзду. Люди посмелее разбойничали на больших дорогах. Жандармы иной раз целыми отрядами делали на них облаву. Мне довелось увидеть с дюжину таких вот молодцов на виселице в Пфальцбурге; оказалось, почти все они — бывшие солдаты, отпущенные по домам после Семилетней войны[26]. От работы они отвыкли, не получали ни лиарда пенсиона и, напав на сельский дилижанс на савернском косогоре, были задержаны в Вильшберге.