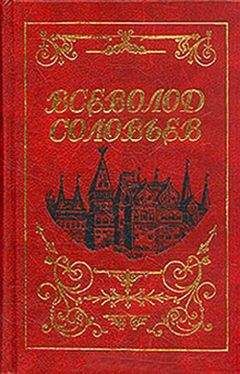Всеволод Соловьев - Царское посольство
Едва начнет она работу — мигом встрепенутся мысли — и улетят туда, за моря, в далекие неведомые страны, где находится ее милый и откуда не доносится о нем ни одной весточки. Летят мысли, залетают в то самое тридесятое царство, где небо сходится с землею, и стучатся, и просятся, и вопрошают неведомый мрак: где он? Где он? Но мрак неизвестности безответен.
Только бывает и так: вдруг, будто сквозь рассеявшийся туман, мелькает милый образ — и все яснеет, все яснеет. Глядят на нее его ясные очи, чувствует она его дыхание на щеке своей, слышит его голос, повторяющий одно и то же: «Настя, моя Настя!».
И сердце ее, замирая от тоски, шлет ему один и тот же вопрос: «Милый, да когда же ты возвратишься?»
XXII
— Настя? А, Настя?.. Настасья Лексевна? Да неужто, матушка, не слышишь?
Это царская постельница теребит за рукав задумавшуюся девушку, искусные пальцы которой выводят по алому атласу крестики да звездочки хитрого узора.
Настя встрепенулась, крылатые мысли сразу слетелись из страны чужедальней — и замерли.
— Что это ты, девка? Работаешь, так уж ничего не видишь и не слышишь, ровно сонная… Заработалась совсем, одурманило тебя от работы, не подневольная та работа, не урок срочный тебе задан… Складывай-ка ты свое рукоделье да ступай к царице, она тебя звать приказала.
Настя сложила пяльцы, прикрыла их шелковым платочком, оправилась и побежала к царице. Она застала Марью Ильинишну одну, отдыхавшую после целого утра всяких хозяйственных хлопот.
Поклонилась Настя низким поклоном и почтительно спросила:
— Что, государыня наша милостивая, приказать изволишь?
— Ничего я тебе не прикажу, — отвечала царица и улыбнулась.
У Насти екнуло сердце. Недаром эта улыбка! И она вопросительно, сама не зная отчего, краснея как маков цвет, глядела прямо в прекрасные карие глаза царицы.
— У меня для тебя есть новость, — помолчав, сказала Марья Ильинишна, — и новость та хорошая: отец твой на Москву вернулся.
Настя не удержалась и громко, радостно вскрикнула.
— Да, вернулся, ныне утром, мне это государь сказал… значит, теперь и твоему житью здесь у меня конец наступает. Отец, чай, захочет тебя к себе взять, так ты будь готова.
Настя совсем растерялась и стояла, не зная, что ей сказать, как быть.
— Что это ты? — все с той же улыбкой спросила царица. — Али отцу не рада, али домой не хочешь?
— Рада я, государыня, рада… как же мне не радоваться.
Но это было все же не то.
— Договаривай, Настя, спроси меня, коли спросить что хочешь. Я тебе отвечу.
Но у Насти сил не хватило — она только все больше и больше краснела. Ее смущение понравилось Марье Ильинишне.
— Баловница ты — вот что! — весело сказала она. — Ну да, Бог с тобою, слушай: суженый твой вернулся жив и невредим. Поладил он со стариком твоим либо нет — я того не знаю. Но что мной тебе обещано, то и будет сделано. Совсем я тебя еще не отпускаю, а соберись ты и тотчас же поезжай повидаться с отцом, побудь дома часа два времени — и возвращайся. Колымага тебя ждать будет. Сама увидишь, каков отец… так, стороною, попытай его, послушай, что он говорить станет, а как вернешься, приходи ко мне… тогда видно будет, и мы обсудим. С матерью твоей, как уезжала она, я уже обо всем переговорила, она противиться не станет, а только, дело понятно, против мужниной воли не пойдет.
Настя поблагодарила царицу, как умела, и с замирающим сердцем поехала домой.
Она была очень рада свидеться с отцом, которого любила сильно, но к этой радости теперь примешивался такой страх, такая неизвестность. Однако, когда она увидела толстую бородатую отцовскую фигуру, все забылось, и с громким криком кинулась она ему на шею, прижалась к нему, целовала его и не могла нацеловаться.
— Дочка… Настюшка… голубка моя! — повторял, весь сияя и в то же время с навертывающимися на глаза слезами, Алексей Прохорович. — Да постой ты, погоди… дай взглянуть-то на тебя!.. Ничего себе девка, поправилась… не изморили тебя в царском терему… выросла… ей-ей, выросла!
И он гладил ей голову, и любовно глядел на нее, и прижимал ее к своему сердцу. Это был самый счастливый день в его жизни, и никогда не думал он даже, что бывает на свете такое счастье. Он дома, у себя, со своими! Он ощущает присутствие жены, дочери. Ему казалось странным, как это он мог так долго жить без них.
Но первая радость прошла, и Алексей Прохорович остановил порыв своей нежности, превратился в прежнего, всегдашнего Алексея Прохоровича. Настя засыпала его вопросами, мать вторила ей. Сначала он отвечал неохотно, немногословно, но вдруг разговорился, увлекся воспоминаниями и стал рассказывать разные эпизоды из своего путешествия.
Хорошо, что ни Посникова, ни Александра тут не было, а то они с удивлением услышали бы о таких вещах, о которых до сих пор не знали. Особенно интересной и ужасной вышла у Алексея Прохоровича битва с морскими разбойниками.
— Они это за нами, — рассказывал он, увлекаясь больше и больше и глубоко веря в то, что рассказывает, — мы от них, а они за нами… вдруг подводный камень… корабль наш так и сел на него. Они на нас наскочили и давай стрелять.
— Ай, страсти какие! — воскликнула Чемоданова, закрывая лицо руками.
— Да, мать моя, страсти немалые, хорошо, что вас, баб, с нами не было.
— Так как же вы-то, батюшка? — робко спрашивала Настя.
— А так же вот, дочка, они стреляют, и мы стреляем, они за сабли, и мы за сабли… вот этой самой рукою я шестерых разбойников уложил… с маху!.. И не пикнули!
Настя вздрогнула, а мать даже отскочила в ужасе и глядела на мужнину руку, будто на ней была кровь шестерых разбойников. По счастью, Алексей Прохорович от сцен ужасных перешел к описанию природы и стал рассказывать о том, что в тех странах немецких зимы совсем нет и круглый год зеленые деревья, а на тех деревьях растут золотые яблоки.
— А вот ты бы, батюшка, нам с матушкой хоть по одному такому яблочку привез! — заметила Настя.
— Глупа ты, — ответил отец, — они хоть и золотые, а все ж таки портятся, и никак их довезти невозможно.
— А вот, батюшка Алексей Прохорыч, — заговорила жена, — намедни Макарьевна, странница, приходила и Господом Богом клялась, что в тех самых немецких странах водятся люди с песьими головами. Видал ты тех людей?
— Как же, пришлось сию погань видеть! — ответил Алексей Прохорович.
— И что ж, батюшка, точно, песьи головы?
— Ну да, песьи, вот ни дать ни взять, как у нашего Шарика.
— И лают?
— Вестимо лают.
— Как Шарик?
— Не совсем так… лают-то они лают… только по-немецкому. Да я, матушка, и не того еще навидался… в Венеции-то, в том самом граде, что дьявольскою силою на воде стоит и не тонет… я там и чертей видел… такие хари, что как вспомню, ажно мерзко станет!
Чемоданова содрогнулась, плюнула и перекрестилась. Настя во все глаза глядела на отца. Если бы кто другой стал такое рассказывать — она бы не поверила, но отцу она не смела не верить; она вся ушла в рассказ его и вдруг, сама не зная каким образом, громко сказала:
— Люди с песьими головами… черти… так, значит, и Алексаша всего этого навидался!
Сказала да и ужаснулась, как такое могло громко сказаться. Но слова не вернуть — и отец его расслышал. Он вдруг нахмурился.
— Это что ж такое, Настасья? — мрачно выговорил он. — Никак, ты за старое…
Это старое в миг один нахлынуло на него, поднялась в сердце вражда к старику Залесскому, и сам Александр представился не таким, каким он теперь знал его, а прежним мальчишкой, осрамившим его, нанесшим ему кровную, несмываемую обиду.
— Настасья! — крикнул он. — Чтоб я не слыхал больше этого имени… Не то худо будет!
Он поднялся с лавки и по своему обыкновению вышел, хлопнув дверью.
Настя отчаянно взглянула на мать и, рыдая, упала головой ей на колени.
XXIII
Когда Александр ясным, свежим осенним утром подъезжал к родительскому дому, его охватили чувства радости и в то же время беспокойства. Ведь вот во все эти долгие месяцы скитаний по белому свету он так редко вспоминал и отца и мать, так редко, что можно было подумать, будто он совсем их не любит, будто они совсем и не нужны ему. Но теперь, когда через несколько минут он должен был их увидеть, его сердце готово было выпрыгнуть от радости.
«Здоровы ли они, все ли там по-прежнему? — приходило на мысль и тотчас же дополнялось мучительным предположением: — А вдруг… вдруг без меня что-нибудь случилось неладное… вдруг мать… или отец…» — И радость быстро сменялась мучительным беспокойством.
Вот он видит крышу родного дома, из трубы, как и всегда в этот час утра, поднимается дым.
«Это она там… присматривает за стряпнёю… готовятся пироги… с кашей и луком, а то с говяжьей начинкою и с яйцами… пироги подовые… во рту тают!..»