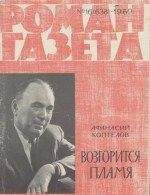Афанасий Коптелов - Великое кочевье
— Неужели Яманай?
— Она. Отличилась так, что все смеются над ней. А у матери глаза не просыхают.
Ярманка, побледнев, спросил прерывающимся от дрожи голосом:
— Где Яманай сейчас? Жива ли она?
Уренчи глянула на него и захохотала:
— Испугался?.. Жива твоя красавица!
— Убежала в лес. Там пропала, будто в реку прыгнула, — рассказывал Утишка. — Всем стойбищем три дня искали — не нашли, а потом сельсовет узнал…
— Что? Что узнал сельсовет? — торопил Ярманка.
— К русским ушла, — ответила Уренчи, недовольная тем, что младший Токушев все еще так близко к сердцу принимает каждое слово о Яманай.
— В селе обнаружилась, — добавил Утишка.
Ярманка, почувствовав прилив крови к щекам, вскочил и бросился к выходу. Ему хотелось побыть одному.
Утишка выглянул из аила и обидчиво крикнул:
— Ты куда? Разве не знаешь, что нельзя уходить, когда готовится арака?
Но Ярманка не оглянулся.
4Утром он решил принарядиться. Чаных подала ему измятую и непростиранную рубашку. Ярманка подержал ее в руках, поморщился и швырнул На мешок с пожитками.
Токуш погрозил ему трубкой:
— Перестань дурить! Она тебе жена. Ну и живи как муж.
Накануне старик видел, как Чаных мыла рубашку Ярманке. Она расстелила ее на камне у реки, смочила водой и долго царапала ногтями. На руки ее падали слезы.
Не ответив отцу, Ярманка взял рубашку, мыло и пошел к реке. Босые ребятишки побежали за ним.
— Ты куда? Ты не уедешь от нас?
— Если ты уедешь, мы будем плакать.
Он жалел детей. В их глазах видел глубокую привязанность. Теперь, не глядя на них, он невнятно пробормотал:
— Не знаю… Может, не уеду.
Выстирав рубашку и высушив на камнях, Ярманка отправился на покос. Там попросил старшего брата:
— Отвези меня до Шебалина… Поеду назад.
5Одряхлело солнце, поблекло, по утрам лениво отделялось от земли, завернутое в липкие хлопья тумана, и с каждым днем утрачивало былую высоту своего полета.
Отгуляли пряные ароматы багровой осени, сменившись запахом плесени, прокисших на корню грибов, гниющей — некошеной — травы.
Угрюмые вершины гор низко надвинули белые папахи снегов. Даже небо выцвело и казалось угрюмым.
Лицо Анытпаса покрылось печалью. В обеденный перерыв и в выходные дни он поднимался на верхние нары, открывал окно и надолго застывал, слушая шелест падающих листьев в черемуховой заросли. Иногда он бесцельно глядел на крыши города, лежащего на дне долины, представлял себе, как в родном краю нежно ложится на землю снежный пух, обрадованные звероловы уходят в заманчивые леса.
Мысли уносили к дому:
«Жена, наверно, извелась, тоскуя по мне. Кто ей дров привезет? Кто аил починит? Дает ли ей Сапог мяса? Она — баба хорошая, на ногу быстра, как лесная кабарга. Я зря обижал ее. Надо было сердце свое унять. Ну ничего! У баб, говорят, черные дни в памяти не держатся, а только светлые, голубые».
Заскорузлой ладонью тяжело проводил по лицу, приминая одинокие щетинки, обидчиво вытягивал толстые губы.
«Шатый говорил, что я буду счастлив. А вот… — Он развел руками. — Не для нас светлые дни… Наше счастье умерло раньше нашего рождения».
Скорбный взгляд его пробегал по длинным нарам исправтруддома, скользил по беленым стенам, от одного вида которых становилось холодно.
«Что же это такое? Неужели сам Шатый — сильнейший кам на Алтае, наследник силы Чочуша — ошибся? Неправду сказал?» Эти вопросы преследовали Анытпаса с первого дня заключения, мучили до боли в голове.
На губах его лишь тогда теплилось слабое подобие улыбки, когда к нему подсаживался Осоедов, горбоносый, длинный, как жердь:
— Ну, хлеб где?
Анытпас извлекал из кожаной сумки краюху.
— У-у, опять в два раза больше моей пайки.
Осоедов выхватывал хлеб, жадно ломал и возвращал маленький кусок:
— Тебе хватит, а то обожрешься.
Откусив хлеба, Осоедов доставал длинную иглу и стеклянный пузырек с темно-синей тушью, брал левую руку алтайца, сжимал коленками, будто тисками, выше запястья осыпал легкими уколами, сам бормотал:
— За такой кусок половину лошади наведу. И хватит. Это тоже не легко.
Сладко зевнув, Осоедов гнусаво запевал:
Болят мои раны,
Болят мои раны глубокие…
Анытпас следил за верткой иглой, глаза его улыбались, как глаза ребенка. Скоро от пальцев и до самого локтя дойдет темно-синий табун с гривастым жеребцом. Где-нибудь сбоку появится пастух в лисьей шапке с пышной кистью и с длинной трубкой в зубах. В этом молодом всаднике Анытпас узнает себя и будет показывать руку сородичам. Не беда, что ноги у лошадей кривые и шеи походят на деревянные. Ни у одного алтайца нет на руках не только большого табуна, а даже захудалого барана. Один Анытпас обладает этим вечным рисунком. Он плюнул на палец и старательно потер крайнюю лошадь — не стирается! Значит, мастер хороший.
Первый месяц Анытпаса держали в угловой камере исправтруддома, где, кроме него, помещалось еще три человека — два алтайца и один казах. Все трое сидели за конокрадство, и не впервые. Воры пробовали заговорить с «новеньким». Но он целыми днями лежал, уставясь в угол обиженными глазами. Воспитатель Санашев, щупленький теленгит, в, прошлом учитель в первой алтайской школе, тщетно пытался вызвать Анытпаса на разговор. В конце второй недели воспитатель докладывал начальнику:
— Даже голоса его не знаю. Забился в угол, как в нору. Робкий. Я сомневаюсь в том, что он мог совершить тяжкое преступление. Не верится, что у человека с такими тихими глазами может подняться рука на своего, алтайца.
— Ну что ж, займись им особо, — сказал начальник. — А потом посмотрим, что с ним делать.
Санашев стал ежедневно посещать угловую камеру. Первый раз он сел рядом с Анытпасом и, будто ничего не зная о нем, начал выспрашивать:
— Ты откуда? Каракольский? Я был в вашей долине. Самое красивое место на Алтае! Как тебя звать? Баба у тебя есть?
— Есть. Красивая! — Глаза Анытпаса посветлели. Он доверчиво посмотрел на собеседника, говорившего с ним таким теплым голосом. — К бабе меня отпустишь?
— Подружимся с тобой, тогда поговорим об этом.
На следующий день заключенный встретил воспитателя у двери:
— Почему, друг, долго не приходил? Письмо моей бабе напишешь?
— Напишу. Что ты ей хочешь сказать?
— Пусть приедет ко мне в гости. Можно?
— Можно, — согласился воспитатель, доставая бумагу. — Скоро я вас начну грамоте учить. Сам будешь писать письма.
На первые два письма ответа не было. Третье вернулось с надписью: «Получатель выбыл в неизвестном направлении».
Лицо Анытпаса становилось все более сонным, в глазах таял блеск.
Перед начальником воспитатель поставил вопрос о немедленном переводе Чичанова на кирпичный завод.
— Анытпас не опасный, не сбежит. Там с ним поработаю, а здесь он засохнет.
На кирпичном заводе исправтруддома Анытпас сначала копал глину и возил песок с реки. Потом его поставили резать кирпичи. Кожа на щеках его посвежела, глаза стали теплее, хотя не утратили выражения тоски.
Каждую неделю заключенных водили в баню, построенную в густом черемушнике.
В бане Анытпас впервые увидел Осоедова и с криком отскочил от него. На теле Осоедова не было неразрисованного места: ноги его оплел причудливый хмель с мотыльками возле листьев, на животе и спине — березовые рощи, голые люди, снизу вверх ползла змея, на плече она извернулась кольцом и положила голову на сухую шею…
— Что, струсил, желторотик? — усмехнулся Осоедов, обнажая черные пеньки зубов.
Разглядывая рисунки, Анытпас видел мужчин со стрелами в руках.
«С такими стрелами охотились наши деды», — подумал он.
Закрыл глаза. Родная долина раскинулась перед ним. Бесконечные табуны лошадей передвигались с горы на гору.
Анытпас подошел к Осоедову и, погладив свою руку, сказал:
— Конь рисуй… Много-много.
Он придавал этому особое значение: десятки раз видел, как весной алтайки лепили ягнят, жеребят и телят, кропили аракой после камланья, — чем больше вылеплено скота, тем богаче будет приплод в табунах и стадах.
И вот Осоедов вторую неделю татуировал его: острой иглой нарисовал целый табун кривоногих лошадей. За каждую лошадь он брал у Анытпаса половину хлебного пайка.
Алтаец думал о возвращении в родную долину. Яманай будет удивлена, когда увидит табуны на теле мужа. Ни у кого из алтайцев нет таких рисунков, как у него, Анытпаса Чичанова! Он скажет жене:
«Скоро у меня будут настоящие табуны. Собственные. Тысячные! Раз Большой Человек обещал дать лошадей, то он свое слово выполнит».
На крыльце — чьи-то твердые шаги, со скрипом гнулись половицы. Осоедов отпрянул от Анытпаса, опустил тушь в карман и моргнул. Алтаец не понял его и продолжал беспечно дуть на израненную руку.