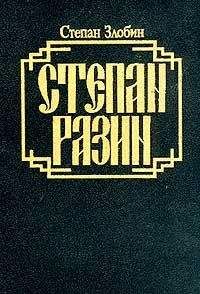Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
Никон высунулся из избушки, отдернув слюдяное оконце, и душа его наполнилась торжеством. Возле надвратной церкви Успения на въезде в детинец он увидел толпу посадских, торговую сотню с хлебом, церковный причт с иконами, сторожу на обломах стены, кованые железные ворота на заклепках, сейчас гостеприимно распахнутые, раскатанную до Троицкого собора червчатую кошму... Чтят пока патриарха и милуют, и ежли где и сыщется какая невзглядь и жидь, то при виде ревностных молитвенников она невольно западает в сумерки, яко моль и гнусь. Душевное тепло невольно кинет всякого гада в бега и ужас.
И вдруг увидел Никон чернца-юрода, безмятежно шествующего по червчатому покровцу встречь путевой кибитке и властно втыкающего подпиральную ключку пред собою; бубенцы прерывисто стетенькивали в лад валким, зыбким шагам монаха. И никто – ни стрельцы городовые, ни боярские дети, ни церковная братия, ни посадский люд не мешали юроду. Какая-то шалая, полудетская улыбка расплылась по ожидающим забавы лицам, и взгляды всей толпы воткнулись в растерянное лицо Никона.
...Никон, Никон, не осердися, не распаляй душу свою! Лучше воззрись пуще в это блеклое истаявшее лицо, в страдальческие синь-небо глаза, обведенные рыхлой коричневой тенью, в плоское сизое тело, едва призадернутое холщовым кабатом, словно бы изъеденным собаками. И неуж никакой крохотной подробностью своего обличил не напомнит тебе юрод былой жизни и того счастливого случая, с каким ты вырвался из смерти, когда бежал с Соловков? Владыка, памятуя о своем обете, ты заложил ныне на Белом море островной Крестовый монастырь в честь счастливого спасения. Много лет отпало с тех дней, из простого монаха волею судеб взнялся ты на ту пастырскую вершину, с коей до самого Спасителя, почитай, рукой подать; ты – явленный образ самого Христа. Ну, натужь память, первосвятитель, направь все силы сердца своего на то лето, когда ты погибал в морской голомени и, уже не чая живота, покорно погружался в студеную пучину на прокорм рыбам. И, знать, Богом было так заповедано, чтобы подьячий Голубовский вытянул тебя на днище перевернувшегося карбаса, а голубоглазый отрок, переодевшись в белую смертную рубаху, что всегда неотлучна с поморцем во всяком походе, воздел руки к небу и вдруг воскликнул по необъяснимому чувству, словно бы Божий глас требовательно позвал: «Господи! – взмолился. – Если спасемся, юродом стану!» И гневливое море тут же разом окротело и смилостивилось.
Нет, не признать тебе, Никон, в юроде Феодоре Мезенце прежнего отрока Минейку. Да и то верно; ежли бы ты помнил всякое добро, содеянное тебе во все годы, то усох бы, согнулся под тяжестью благодеяний и никогда бы не поднялся с колен от бесконечной благодарной молитвы.
«Берите баловня! ловите!» – взовопили боярские дети и, взмахивая топорками, побежали наперерез Феодору. Со стороны возов поскакали стрельцы. Поднялся шум, сумятица, сронили привальный каравай с солонкою. Но опоздала сторожа. Юрод отпахнул дверь патриаршьего возка, головою повалился в ноги святителю, верижный крест тяжело скатился на кошму и словно бы намертво приторочил юрода к избушке; служивые пытались оттащить смутьяна, заламывали руки, гнули выю – и напрасно.
«Гоните, гоните прочь изврастителя!» – хотел вскричать Никон, но язык присох. Никон отодвинул ноги от засаленного колтуна, точно боялся наступить на голову блаженного и раздавить ее, но вдруг улыбнулся, снял клобук и концом шелкового воскрилья бережно вытер распаренный лоб и розовый рубец над бровями, натертый камилавкой. И вздрогнул Никон от привязчивого выцветшего взгляда юрода – столько было в нем тоски и боли.
«Чего тебе, скажися, христовенький?» – Никон принагнулся, мелко окстил лысеющее темя, шею в рыжей дорожной перхоти, измозглые белые ключицы, остро выпирающие из рубища. Но юрод молчал, вперившись в святителя. Бугристый, с надбровными шишками покатый лоб, густая с проседью копна волос, черные без дна глаза, как бы в них навечно заселился влажный густой мрак, и в глубине этой темени блуждают, вспыхивая, золотые искры. Как бы озарило Феодора, и в ненавистнике своем он сразу признал беглого монаха, коего чудом спасли тогда у Кий-острова. Но ничем не выдал Феодор знакомства, ибо устрашился нагаданной встречи.
«А... боисся!» – возрадовался юрод. «Нет, не боюся», – спокойно ответил Никон, по-прежнему улыбаясь. «Черт тебе в упряжку, еретник!» – Феодор неловко задрал голову, а пальцами судорожно вцепился в приступку. Загнувшиеся слоистые ногти побелели. Служивые с батожьем медлили, осторонясь, ждали патриаршьего слова. Им было страшно слушать такие кощуны на Никона. А тот все улыбался, измученно искривив рот. Губы его шевелились, словно бы приговаривал святитель: де, пуще жаль меня, юрод! ой, сладко мне!
«Что с Русью-то натворил, еретник!» – приступал Феодор.
«Уймися, пока жалею. Я вас из ада вызволяю, неслушники...»
«Врешь! Ты матушку нашу, православную церкву на дыбу вызнял! Руки ей вывернул, изгильник! Вот на какую муку спосылал! И нету конца тоей муке! Исплакались от тебя, мучитель! Улыскаешься, яко ангел, а внутре лев рыкающий! Гляньте, гляньте на него, милостивцы! – поднял голос Феодор до визга и впервые, решившись, отпрянул от возка, как бы сдаваясь на милость служивым, вздел к небу посох с бубенцами. – Узрите, христовенькие, этого смутителя и ужаснетесь! Иным ноги умывает водою, хоща уподобиться Искупителю, а иным те же ноги ломает дубиною, а иным кожу кнутом сдирает. Христос Спас наш такого не творил. Спас наш смирения нам образ дал, сам бит был, а сам никого не бил. Никон – сын дьявола, отцу своему сатане работает и обедни ему по воле его строит...»
«Надоел ты мне, чародей», – тихо, но внятно сказал Никон из глубины избушки и осном дорожного посоха резко, безжалостно ткнул в плечо юродивого, так что сразу у того отнялась рука; руда скоро напитала кабат и заструилась на дорогу. Феодор споткнулся на полуслове, безумно взглянул на патриарха и упал под колеса. Всхрапнули лошади, отпрядывая; вскричала, гневно зашумела толпа. Тут жилистая тонкая рука монашка, невесть откуда вдруг взявшегося, подхватила юрода и споро поволокла прочь.
«Сколь ты тяжел, смутитель. Как свинцом налит», – с придыханьем бормотал будильщик Исаф, вталкивая Феодора во двор купца Мельникова. И тут ударили юрода сзади по темечку железным пестом, и провалился Феодор в небытие. А очнулся уже в кельях на Суне-реке, прикованный цепью к ограде, как сторожевая собачонка.
Глава третья
На православую жальливую Русь со всех закутков и задворков европейских полезли они, как пчелы на взяток, и никакой обороною их не остановить: деги и влахи, греки и немцы; кто с обозом за церковной милостию, кто в иерархи с дальним прицелом, чтобы осесть на богатой чужбине, остаться на государево имя. Поехали брадобреи и лекари, купчины и служивые, приказчики и ремественники, все больше люди оборотистые, той пронырливой природы, кто из кукиша состряпает выгоду и скоро высмотрит, где и что плохо лежит, чтобы тут же и прибрать к рукам. Устремились на северную Русь те искатели счастия, кто совесть почитал за большой изъян. Иные, удачливо приткнувшись к Московскому Двору и улестив бояр, скоро сбивали себе состояние и отбывали назад на родину; иные же – лазутчики, шпыни, прелагатаи и смутьяны, кто новый завод и бунт всегда рад завести, – состроив из себя преданного, льстивого слугу, меж тем хитроумно выглядывали московские секреты, и с посольским двором, иль с иным спопутьем, а то и тайными тропами мимо застав и засек срочно спешили с вестями к своим королям.
Вот уже и не только домы выстроились на Москве и Вологде, в Архангельске и Астрахани, но и целые слободы с церквами, и встали торговые ряды со всякой заморской приманкою; а немецкие, датские и шкотские полковники, ни в чих не ставя древние русские привычки, спьяну бьют не только посадских, пуская в ход шпаги, но и государевых слуг. И вроде бы пригрелись иные плотно у жирного куска и теплого места, но сколько же, однако, самых гнусных басен сочинили и отправили содержанцы в королевские дворы, дикой сплетней и интригою отплачивая за русское гостеприимство. Так и досадят в посмешку, так и выгрызают православную душу, чтобы гляделась, как сито, выставляя из чистосердечных гостеприимных людей барбаров и мошенников. И редко кто поселялся навсегда с решительной мыслию принести посильную пользу новой благодарной родине. А уж какими щедрыми дарами и милостями не выказывала себя Москва, чтобы не пасть лицом перед гостями и поддержать родовое предание; де, Радигостю никогда не изменяла древняя Русь...
Летом шестьдесят второго года прибыл из Молдавии очередной искатель счастия, бродячий архирей, смышленый плут и досадитель, газский митрополит Паисий Лигарид, которому «не подобало возлагать на себя ни епитрахили, ни омофора». (Константинопольский патриарх Дионисий о нем говорил: «Я его православным не называю, ибо слышу от многих, что он папежник, лукавый человек». Он всегда был искренним католиком. В 1639 году принял рукоположение во пресвитера от униатского митрополита Рафаила Корсака, а в 1641 году был назначен католическим миссионером на Восток с жалованьем сначала в 50, потом 60 скуди. В 1652 году Лигарид, притворившись православным, был рукоположен в сан митрополита Газы иерусалимским патриархом Паисием. При этом он продолжал получать содержание от Конгрегации пропаганды (этот секрет открылся спустя триста лет). В 1662 году Лигарид посылал в Рим упреки о задержке жалованья и давал объяснение, как он стал православным митрополитом, ибо Конгрегация отказывалась признать за ним этот сан. Лигарид умер убежденным католиком.)