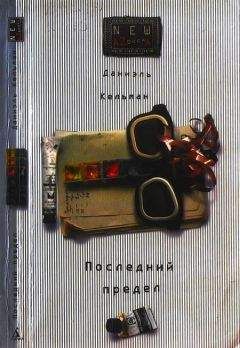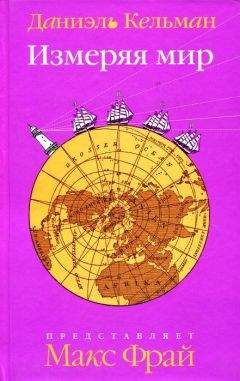Тилль - Кельман Даниэль
— Может, если все-таки найдем кайло, — произносит Маттиас со стоном. — Может, кайлом разворошили бы.
«Живой или мертвый, слишком уж тебя это различие заботит, — говорит Клаус. — Столько бывает промежутков, столько пыльных углов, в которых ты уже не то, но еще и не это. Столько снов, от которых не проснуться. Я видел, как кипит в котле кровь над огнем, и как вокруг танцуют тени, и если великий Черный покажет на такой котел, но он так делает лишь раз в тысячу лет, то нет конца, скрежету зубовному, и он погружает голову в котел и пьет оттуда, и, знаешь, что я тебе скажу? Это еще не ад, даже еще не преддверье ада. Я видел такие места, где души горят, как факелы, только жарче и ярче, и вечно, и никогда не утихает их крик, потому что никогда не утихает их боль, и это тоже еще не ад. Ты думаешь, что можешь себе это представить, сын мой, но ты ничего себе не можешь представить. Ты думаешь, быть погребенным в подкопе — это почти смерть, думаешь, война — это почти ад, а на самом деле все, все это лучше ада; здесь внизу лучше, в залитом кровью окопе лучше, под пыткой лучше. Так что не отпускай жизнь, не умирай».
Тилль смеется.
— Чему смеешься? — спрашивает Корфф.
— Раз так, скажи мне заклинание, — говорит Тилль. — Ты был паршивым колдуном, но, может быть, с тех пор ты чему-то научился.
«Ты с кем разговариваешь, — спрашивает Пирмин. — Кроме меня, здесь призраков нет».
Снова взрыв, гром и грохот, Маттиас воет, видно, обрушилась часть потолка.
«Молись, — говорит Железный Курт. — Мне первому не свезло, теперь вот Маттиасу».
Тилль опускается на корточки. Он слышит, как кричит Корфф, но Маттиас ему не отвечает. Что-то ползет по щеке, по горлу, по плечу, будто паук, но здесь нет животных; значит, это кровь. Он ощупывает голову, находит рану на лбу, от корней волос до носа. Под пальцами совсем мягко, и крови все больше. Но он ничего не чувствует.
— Господи, прости, — говорит Корфф. — Прости меня, Иисусе. Дух святой. Я товарища убил ради сапог. Мои прохудились, он крепко спал, это в лагере было, под Мюнхеном, что мне было делать, без сапог ведь никак! Ну я его и придушил, глаза открыть он успел, а закричать уже нет. Не мог же я без сапог. И еще у него был оберег от пуль, он мне тоже был нужен, из-за этого оберега в меня ни разу не попали. А от меня он ему не помог, оберег-то.
— Я тебе что, поп? — спрашивает Тилль. — Бабушке своей исповедуйся, оставь меня в покое.
— Господи Иисусе, — говорит Корфф. — В Брауншвейге я девку от шеста отвязал, ведьму, рано утром это было, ее в полдень должны были сжечь. Молодая совсем. Я мимо проходил, никто не видел, темно еще было, я веревки разрезал и говорю: «Быстро, беги за мной!» И она побежала, она так мне благодарна была, и я ее взял столько раз, сколько я хотел, а хотел я много раз, а потом я ей горло перерезал и закопал.
— Прощаю тебя. Ныне же будешь со мною в раю.
Снова взрыв.
— Ты почему смеешься?
— Потому что не видать тебе рая, как своих ушей, ни ныне, ни потом. Такого висельника, как ты, и сатане тронуть противно. А еще я потому смеюсь, что я не умру.
— Умрешь, — говорит Корфф. — Я не хотел верить, но теперь уж ясно, что мы не выберемся. Подохнет Корфф.
Снова грохот, снова все дрожит. Тилль прикрывает руками голову, будто от этого может быть прок.
— Корфф, может, и подохнет. Да только не я. Я сегодня не умру.
Он прыгает, будто на канате. Нога болит, но он стоит твердо. Камень обрушивается ему на плечо, кровь снова течет по щеке. Опять грохот, опять падают камни.
— И завтра не умру, и ни в какой другой день не умру! Не хочу! Не хочу и не буду, ясно?
Корфф не отвечает, но, может быть, он еще слышит.
Поэтому Тилль снова кричит:
— Не хочу, не буду, я ухожу, мне здесь надоело!
Грохот, земля дрожит, камень на лету задевает плечо.
— Ухожу. Всегда так поступаю. Когда дело плохо, я ухожу. Я здесь не умру. Я не умру сегодня. Я не умру!
Вестфалия
Она держалась все так же прямо. Спина вечно болела, но она ничем этого не выдавала и делала вид, будто трость, на которую ей приходилось опираться, была модным аксессуаром. Она еще напоминала свои старые портреты; то, что осталось от ее былой красоты, все еще заставляло теряться людей, неожиданно обнаруживших себя в ее обществе, — как сейчас, когда она откинула меховой капюшон и уверенно оглядела залу ожидания. По оговоренному знаку стоявшая за ней камеристка объявила, что прибыла ее величество королева Богемии и желает беседовать с посланником императора.
Она увидела, как переглядываются лакеи. Очевидно, в этот раз шпионы не справились со своей задачей, никто не ждал ее приезда. Она покинула дом в Гааге инкогнито, Генеральные штаты объединенных голландских провинций выставили ей пропуск на имя мадам де Корнваллис. В обществе одного только кучера и камеристки она отправилась на восток через Бентхайм, Олдензал и Иббенбюрен, мимо заброшенных полей и выгоревших деревень, вырубленных лесов, мимо монотонных ландшафтов войны. Постоялых дворов не было, так что ночевали они, вытянувшись на скамьях в экипаже, что было опасно, но ни волки, ни мародеры не заинтересовались маленьким экипажем престарелой королевы, и они беспрепятственно добрались до дороги, ведущей из Мюнстера в Оснабрюк.
Тут все переменилось. На полянах росла трава, у домов были крыши. Ручей вертел колесо мельницы. У края дороги стояли караульные будки, перед ними — упитанные мужчины с алебардами. Нейтральная территория. Здесь не было войны.
Перед стенами Оснабрюка к окну экипажа подошел стражник и спросил, чего им угодно. Камеристка, фройляйн фон Квадт, молча протянула пропуск, он взглянул на него без особенного интереса и пропустил их. Первый же встреченный ими горожанин, чисто одетый и с аккуратно подстриженной бородкой, указал им дорогу к резиденции императорского посланника. Остановив экипаж перед ней, кучер на руках донес королеву, а затем камеристку до портика, чтобы их платья не испачкались в навозе, изобильно покрывающем улицу. Двое стражников с алебардами открыли им ворота. Уверенно, как хозяйка — согласно действительному по всей Европе церемониалу, королевская особа пользовалась хозяйскими правами в любом доме, который удостаивала своим посещением, — она вошла в вестибюль, и камеристка потребовала вызвать посла.
Лакеи перешептывались и подавали друг другу знаки. Лиз знала, что должна воспользоваться замешательством, не дать ни одной из этих голов породить мысль о том, что ей можно отказать.
Она давно не выступала в роли монарха. Подходящий случай редко выпадает, когда живешь в маленьком домике и принимаешь только торговцев, требующих выплаты долгов. Но она была внучатой племянницей королевы Елизаветы, внучкой Марии Стюарт, дочерью Якова, короля Шотландии и Англии, и она с детства умела стоять, идти и смотреть как королева. Это мастерство требовало долгой учебы, но единожды овладевший им уже никогда его не забывал.
Главное — не спрашивать и не колебаться. Ни малейшего нетерпения, ни единого жеста, в котором можно было бы увидеть сомнение. И ее родители, и ее бедный Фридрих, который умер так давно, что ей приходилось рассматривать портреты, чтобы вспомнить его лицо, стояли так прямо, будто их не смеет коснуться ни ревматизм, ни слабость, ни невзгода.
Простояв так среди изумленного шепота несколько секунд, она сделала шаг в сторону позолоченных дверей и еще шаг. Таких дверей здесь, в вестфальской провинции, больше не было, кто-то привез их сюда издалека, гак же, как и картины на стенах, и ковры на полу, и гардины из дамаста, и шелковые обои, и шандалы, и две тяжело свисающие с потолка хрустальные люстры, в которых среди белого дня были зажжены все до единой свечи. Ни один герцог и ни один князь не превратил бы бюргерский дом в маленьком городе в подобный дворец. Даже папа не сотворил бы такого. Так поступали только король Франции и император.
Она шла к двери, не замедляя шага. Важнее всего сейчас была уверенность. Секундное колебание напомнит лакеям, стоящим слева и справа от дверей, что ей можно просто не открыть. Если это случится, наступательный марш будет прерван. Придется сесть в одно из кресел, обитых плюшем, и кто-нибудь явится и сообщит, что посол, увы, занят, но его секретарь сможет ее принять через два часа, и она выразит протест, а лакей прохладно ответит, что сожалеет, и она повысит голос, а лакей равнодушно повторит, что сожалеет, и она повысит голос еще больше, и прибегут еще лакеи, и она будет уже не королевой, а старухой, скандалящей в зале ожидания.