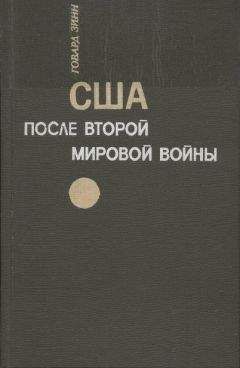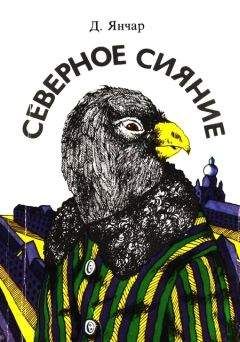Серена Витале - Пуговица Пушкина
Обратился ли он к чужестранцу потому, что больше не доверял друзьям и знакомым? Выбирал ли иностранца, чтобы уберечь русского от ответственности перед российскими законами, и к тому же дипломата, чтобы обеспечить максимальные последствия для его оскорбителей? Или просто Медженис оказался первым человеком, с которым он встретился? В любом случае «больной попугай» — как называли англичанина из-за его бледности и длинного носа — сказал, что он должен поговорить с секундантом Дантеса перед тем, как дать ответ. Покинув Меджениса, Пушкин обменялся несколькими словами с д’Аршиаком. Кто-то заметил и сказал об этом Вяземскому, и тот немедленно оказался рядом с ними. Пушкин поспешно откланялся и расстался с французом, проведя несколько минут в разговоре с другом, упрашивая его написать князю Козловскому и напомнить ему об очерке, который тот обещал написать для «Современника». Вскоре он оставил бал. В два часа утра Пушкин получил срочную записку от Меджениса: узнав, что нет ни малейшей возможности примирения сторон, он вынужден отклонить несомненно почетную для него миссию, предложенную ему Пушкиным.
27 января 1837 года. «Встал весело в восемь часов», — позже записал Жуковский. В этой русской фразе есть ритмическое напряжение и благозвучие аллитерации, которые придают ей торжественную законченность белого стиха, как будто в записках Жуковского отразился человек в отчаянном поиске правды, теперь наполненном новым миром и гармонией — тем самым миром и гармонией, что воцарились в душе Пушкина, как только он стал уверен, что будет драться с Дантесом.
Итак, Пушкин пробудился в прекрасном настроении утром 27 января. После чаю он написал Данзасу, прося его прийти по делу величайшей важности. Вскоре после девяти он получил записку от виконта д’Аршиака: «Необходимо, чтобы я встретился с секундантом, которого вы выбрали, как можно скорее. Я буду ждать у себя в квартире до полудня; до этого часа я надеюсь принять того человека, которого вам угодно будет ко мне послать». Пушкин все еще не знал, есть ли уже у него секундант и когда он будет, но он нашел способ использовать даже это щекотливое обстоятельство для того, чтобы выразить свое презрение Дантесу:
Пушкин д’Аршиаку, 27 января 1837 года [между 9.30 и 10.00 утра]: «Виконт, я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу своего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его выездной лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским, обычаям этого достаточно. Прошу вас поверить, виконт, что это мое последнее слово и что более мне нечего ответить относительно этого дела; и что я тронусь из дома лишь для того, чтобы ехать на место».
В одиннадцать он завтракал вместе с Натали, Александриной и детьми. Он поднялся из-за стола раньше других и стал расхаживать взад и вперед, «необычайно веселый» и энергичный, время от времени выглядывая из окон на Мойку. Там, снаружи, искрился на солнце снег. Наконец он увидел, как у ворот остановились сани: Данзас, с левой рукой на перевязи, бросающейся в глаза как тревожное напоминание о ранах на полях битвы. Пушкин вышел к дверям, поприветствовал своего друга с радостью и облегчением, затем прошел с ним в кабинет. Он объяснил, что должен драться с Дантесом именно сегодня, днем, буквально через несколько часов, — просто не может быть другого выхода, — а у него все еще нет секунданта. Не согласится ли Данзас? Данзас колебался; показывая поврежденную руку, просил его обратиться к другим. Одолжение, о котором просил Пушкин, было слишком грустным. Но он в его распоряжении для любой практической помощи. Поэт попросил купить пистолеты, которые бы тот выбрал в оружейной лавке Куракина, и дал ему денег на эти нужды. Они договорились встретиться снова через час. Когда Данзас ушел, Пушкин позвал Никиту Козлова, бывшего крепостного из Болдинского имения, который заботился о нем в детстве и юношестве и опять стал его слугой несколько лет назад. Он велел Козлову приготовить ванну, потребовал чистое белье, вымылся и оделся. Ответ виконта д’Аршиака принесли незадолго до часу: Пушкин должен уважать правила, и любая дальнейшая задержка будет рассматриваться как отказ в требуемом удовлетворении. Поэт велел Козлову подать старую, с оторванной пуговицей, бекешу и вышел, сказав старому слуге, что он не возвратится до вечера.
Жуковский писал: «Он велел подать бекешь; вышел на лестницу. — Возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика». Другими словами, Пушкин пошел по своим следам — на сей раз буквально — и совершенно неожиданно. Есть русская примета, что любого возвратившегося и вновь вышедшего из дома ожидает неприятность, а Пушкин, видит Бог, был суеверен. Иногда, когда он собирался выходить по важному делу, он велел, бывало, распрягать лошадей из ожидающей его кареты просто потому, что слуга или член семейства должен был сбегать домой и принести что-нибудь для него — носовой платок ли, часы или рукопись, забытую в спешке. И это вовсе не легенда — история его несостоявшейся поездки в декабре 1825 года в Петербург из Михайловского, где он отбывал ссылку. Получив известие о кончине императора Александра I и о волнениях из-за престолонаследия, зная, что в них замешаны многие его приятели, Пушкин решил ехать в столицу. Он рассчитывал прибыть поздно вечером 13 декабря и попал бы прямо на совещание к Рылееву, а наутро был бы вместе с друзьями на Сенатской площади. Но неблагоприятные приметы заставили его отказаться от поездки. И если уж быть до конца честным, то сказанное Николаю I «…стал бы в ряды мятежников» Пушкин должен был дополнить: «да только заяц перебежал мне дорогу и повстречался поп».
И теперь, в день своей дуэли, Пушкин возвращается домой, чтобы сменить бекешу на шубу. Было ли это то, чем он накликал на себя несчастье или ускорил ход роковых обстоятельств собственноручно? Нисколько. Он шел, чтобы убить Дантеса, а с ним и запятнанную, израненную часть себя, чтобы можно было наконец начинать жить снова, покончив с этим смертным грузом. Но вдруг он вспомнил слова гадалки фрау Кирхгоф. Он был совсем юным, когда пошел к ней больше для забавы, и немка-предсказательница предрекла ему, что скоро он получит неожиданные деньги и предложение работы. В будущем, сказала она, его ждет великая слава, два изгнания и долгая жизнь, если он не погибнет в тридцать семь лет из-за белой лошади, белой головы или белого человека. Сбывалось все, что она читала по картам, и даже перед своим тридцатисемилетием Пушкин был всегда настороже, если перед ним возникали «weißes Roß, weißer Kopf, weißer Mensch». Отъезжая из дома 27 января 1837 года, он вдруг осознал, что он на пути к поединку с белокурым человеком, который любил погарцевать в белом мундире кавалергарда на белом коне. Так что имело смысл быть особенно осторожным. Солнце, которое он видел из окна, было обманчивым: на самом деле был жестокий мороз с сильным западным ветром. Лучше на всякий случай одеться потеплее, в самую теплую шубу. Иначе невольная дрожь может помешать ему — и он промахнется.
Он нанял карету на Невском проспекте и подъехал сам к братьям Россет. Он помнил обещание Клементия: «Если станет жарко, я — в вашем распоряжении». Но братьев Россет не было дома. Он поехал к Данзасу — это было чуть дальше — и попросил его съездить с ним во французское посольство. А там он уже все объяснит, и тогда его друг может решать. В присутствии Оливье д’Аршиака он прочитал копию своего письма к Геккерену, которую принес с собой, и с холодной краткостью пояснил факты, которые побудили его это написать. «Есть два вида рогоносцев, — добавил он. — Настоящие знают, что им следует делать; другие, получившие такой статус посредством общественного суждения, оказываются в более уязвимом положении. Таков и мой случай». Он закончил свою речь такими словами: «Теперь я могу сказать вам только одно: если дело это не закончится сегодня же, то при первой же встрече с Геккереном — отцом или сыном — я плюну им в физиономию». Только в этот момент он кивает на Данзаса: «А это — мой секундант». И только тогда обернулся к нему и спросил: «Вы согласны?» Данзас сказал «да»; после чего они с д’Аршиаком обсуждали условия поединка.
Пушкин вернулся в тихий пустой дом: Натали с детьми поехала к Екатерине Мещерской; Александрина была в своей комнате; Никита Козлов, усвоив, что хозяин не вернется до обеда, ушел на половину слуг. Пушкин закрылся у себя в кабинете. Он написал Александре Осиповне Ишимовой: «Милостивая государыня Александра Осиповна, крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall… Сегодня я нечаянно открыл Вашу „Историю в рассказах“ и поневоле зачитался. Вот как надобно писать! С глубочайшим почтением…»