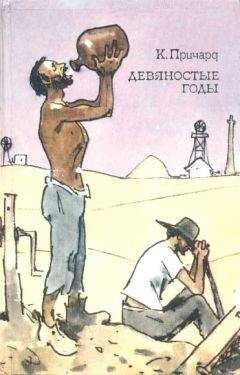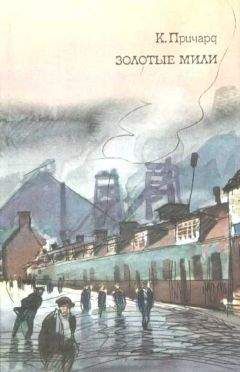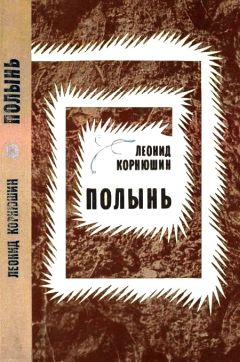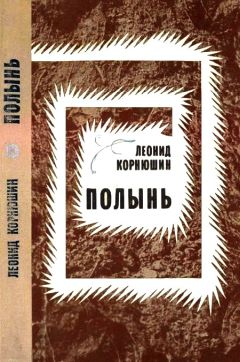Леонид Корнюшин - На распутье
— Ты должен поклониться наияснейшему великому королю.
Шуйский, не глядя на заносчивого ляха, громко выговорил:
— Не подобает московскому и всея Руси государю кланяться польскому королю. А взят я в плен не вами, выдан изменниками слугами.
— Мы и не помышляем унизить тебя, — сказал Сигизмунд.
Вместе с Василием Ивановичем под Смоленск к королю были привезены как заложники и два его брата — Дмитрий и Иван.
Появление в стане Шуйских как пленников не обрадовало русских послов. Но приезд гетмана Жолкевского мог повлиять на ход переговоров.
Филарет, сбираясь к полякам, наказал:
— Припрем гетмана его же клятвой — благо что он тут.
Жолкевский сидел, как сыч, будто никого не узнавал, глядел куда-то выше посольских голов. Филарет заговорил первым, пытаясь поймать холодный взгляд Жолкевского:
— Ты не раз, пан гетман, говорил всем нам, что как только мы явимся к королю, то его величество тотчас же со всем войском отойдет в Польшу. Такую же клятву ты дал и в Займище.
Жолкевский переглянулся с панами, сказал им что-то по-латыни и выслушал от них слова на непонятном для московских людей языке.
— Чтоб его величеству отойти от Смоленска, о том я вам не говорил. Не упорствуйте: исполните королевскую волю и приговорите сдать город.
…Подкупив охранника, — Шуйский посажен был в баню под надзор, — Филарет проник к бывшему царю. Жалость и презрение теснили сердце митрополита. Но, презирая Шуйского за посрамление трона, Филарет Романов не мог отделаться от мук совести. Он винил себя самого: «Кому же я служил в Тушине? Хоть бы просто лжецу, а то иудею да ляхам!» Он проник к свергнутому царю не ради излияния упреков — не по-божески бить упавшего, но с целью вселить в него дух крепости и стойкости.
Шуйский сидел на скамье, Филарета он встретил насупленно, пригнув голову.
— Василий Иванович, я и другие послы, от имени коих я сумел проникнуть к тебе, мы желаем знать: то правда, что ты не поклонился королю? Мы бы хотели знать правду!
— А ты, митрополит, поверишь, что я скажу?
— Поверю, бо тебе за ложь придется пред Богом ответ держать.
— Тогда знай, что это так и было!
Филарет и по интонации голоса, и по выражению глаз видел, что Шуйский не лжет, и радость охватила его сердце.
— Русь не забудет твой поступок! — воскликнул Филарет, на что Шуйский покачал головою:
— Для меня все кончено. — В голосе Василия Ивановича что-то дрогнуло.
Филарет угадал его раскаяние.
— НО Господь все прощает, — утешил его Филарет.
Однако Шуйский не желал поддаться чувству раскаяния: его испепеляла обида.
— И ты, владыко, предал меня! — сказал с укором Василий Иванович. — Кому ты служил в Тушине? Врагам нашей веры и Руси!
— Есть такой грех — за то и каюсь.
— Польские собаки! — проговорил Шуйский не столько для ушей Филарета, сколько для своей стойкости. — Пусть погибну в темнице от голода, но им не доставлю удовольствия увидеть московского царя на коленях.
— Княже Василий Иванович, сам Господь не почтет за грех твою гордость. Я же буду молить Бога, дабы дал он тебе силу духа.
— Не сдавай Смоленск. Пускай ляхи разобьют свои лбы об сию каменную твердыню, — проговорил Шуйский.
— И средь послов есть предатели!
В дверцу бани влез гайдук в черной шапке.
— Пан добродию, уходи скоро, близко господин гетман.
— Храни тебя Бог! — Филарет перекрестил Шуйского.
Голицын кивнул думному дьяку Луговскому, но тот не успел развернуть грамоту, как его опередил Жолкевский:
— Я ничего не помню. Писали русские, а я, не читавши, руку и печать приложил, и там все наврано… — Гетман, нагловато усмехаясь, вынул из-за обшлага кафтана столбец, пронзительным голосом выговорил: — Не вы правите, а князь Мстиславский вот что мне сказал, я в точности его речь записал, слушайте: «Пусть король приезжает в Москву вместе с сыном, пусть он управляет Московским царством, пока Владислав не возмужает».
— Нам князь Мстиславский не волен указывать! — отрубил Филарет. — Мы такого указа от бояр не получали.
— Насчет въезда в Москву короля и целования ему креста, такого, пан гетман, мы не признаем! — заявил с решительностью и Василий Голицын.
Когда послы гурьбой повалили наружу, Лев Сапега остановил Томилу Луговского. Дьяк, задрав сивую бороду, сжав в куриную гузку рот, снизу вверх глядел на литовского канцлера. Водянистые глаза Сапеги светились ложной ласковостью. Канцлер дотронулся в знак особого расположения до руки дьяка:
— Я желаю тебе добра. Иди с Сукиным в Смоленск и склоните жителей на целование креста королю и королевичу, и ты за это получишь удел и еще много всякого добра. С королем у меня уговорено.
— Лучше навязать на себя камень и кинуться в море!
Сукин караулил Луговского у въезда в посольский табор.
— Дело проиграно. Нам Филарет с Голицыным — не указ. Мы сами себе послы! Ты что, али слепой, Томила? Сила солому ломит.
— Выслуживаешься с дьяком Сыдавным за польскую похлебку? Заруби себе на носу: я землю свою не предам!
На другой день послы вызвали к себе — они стояли в курной избе — Сукина с Сыдавным.
— Подумайте, выродки, о своей душе да о Господе! Вас не за тем посылал патриарх. — Филарет стоял перед ними грозный, устрашающий. — Вы куды прямите?
— Вы не вправе вести дело от всего посольства. Вы всего-навсего худородные дьяки! — заявил Голицын.
— Не подымай голос, мы тебе не челядь с дворни, — огрызнулся Сыдавной. — Нас посылает король со своей грамотой в Москву для государского дела. Как нам не ехать?
…Через неделю Сукин, Сыдавной, подбив на черное дело еще двадцать семь человек, подговоренные Львом Сапегой и гетманом, не спросясь Голицына и Филарета, погнали коней в Москву — вести дело к тому, чтобы Москва склонила голову перед Сигизмундом.
Келарь Авраамий Палицын, узнав об отъезде из стана изменников, твердо решил тоже ехать, предвидя, что сидение возле короля может обернуться пленом, а это было для него хуже смерти. Он заглядывал наперед, готовя себя к новым сражениям.
VII
Семибоярщина, продав родную землю, теперь и денно и нощно ждала «государя» — Сигизмундова отпрыска в Москву. Надо было встретить хозяина, порешили они, русским, московским хлебосольством. Владислав Жигимонт, однако, не являлся. Князь Федор Иванович Мстиславский порядочно поиздергался, ожидаючи королевича. Получив только что от короля титул правителя и конюшего — в знак особого его усердия во славу подлейшей унии России Речи Посполитой, он испытывал подъем духа и счастье. Сигизмунд щедро отблагодарил и других изменников. Федька Андронов, недавно безвестный купчишка, был жалован в должность государственного казначея. Худородный дьяк Иван Грамотин получил чин хранителя государственной печати. Михайло Молчанов влез в чин окольничего. Михайло Салтыков, в знак особых заслуг пред королем, был наделен волостями. Федька Андронов грозился:
— Всех перевешаю на стене, коли не угодите государю Владиславу Жигимонтовичу!
С таким же видом он входил и к князю Мстиславскому. Спесивый и чопорный, тот не терпел худородных, вылезших из мрака, и, видя бесцеремонность сего торгового человечка, поднял на него голос:
— Ты, однако, уйми, Андронов, пыл — знай чин!
Федька был не из робких, крутые скулы его отвердели, зеленоватые глаза под рыжеватыми бровями блеснули злыми огоньками. Андронов выпятил грудь и сказал безбоязненно:
— Не подымай голос, князь! Ноне я, чай, не меньше тебя.
— Ты, купчишка, не меньше меня, первого думного боярина?! Ты что, Федька, ай белены объелся? — Мстиславский гневно сжал тонкие губы.
Андронов, нагло усмехнувшись, собрался было пощекотать спесь великородного князя, но в палату вошел вызванный дьяк Иван Грамотин. Андронов, выходя, подумал: «Я тебя заставлю еще плясать под свою дудку!»
— Ведаешь, дьяк, пошто не является королевич?
— Все из-за Шеина, кол ему в глотку! — заявил Грамотин.
— Так ли? Королевич до смерти напуган нашим укладом. Пища наша годится для быков. Распорядись, чтоб знающие составили запись, какие тут дары припасены и что будет государь кушать.
Грамотин в тот же день засадил двух лучших писарей, и те начертали: «В его царское распоряжение, в руки государя Владислава, поступала вся казна, меха, золототканые одежды, посуда, бархат, камка…»
Писцы с особой старательностью потрудились о яствах, на первом месте стояли пироги. Ими-то Московия испокон славилась, послы не могли не нахвалиться, поедая их в изобилии. А пироги были подовые да столовые, начиненные так, что в Европе давались диву: пшеном, бараниной, визигой, тертым сыром, яйцами, а там шли брусничники, медовники, калинники, капустники, грибники, потом шли караваи и калачи с грибами, с ягодой, ржаные и белые снега, крупитчатые, ноздреватые, мягкие, духовитые…