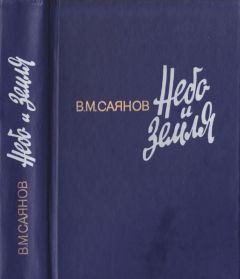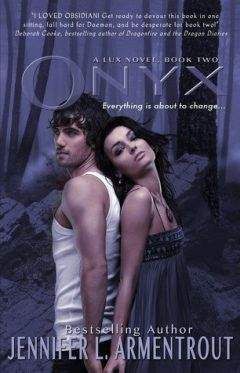Виссарион Саянов - Небо и земля
Лена не могла сдержать улыбки и осторожно дотронулась рукой до локтя Быкова, словно предостерегала: долго ли поссориться с пьяным человеком…
— Война уничтожит слабых, — взволнованно продолжал Васильев. — Дух человека изменится после войны, и мы увидим много такого, о чем и мечтать не смели самые горячие головы.
Быков перехватил устремленный на поручика тяжелый ненавидящий взгляд Тентенникова и сразу понял, что трудной будет жизнь в отряде.
Васильев продолжал говорить, но его уже не слушали. Старик Победоносцев сидел не шевелясь, уткнувшись в тарелку, и только Глеб был весел, словно спирт помог ему забыть обо всем.
— Глупости говорите, — громко сказал Тентенников, приглаживая редкие волосы. — Что хорошего в турнирах да дуэлях — никак не пойму. Неужто со временем люди не поумнеют и подобная блажь будет жить в их голове? Я самолет за другое люблю — он уничтожает на земле расстоянье; разовьется авиация в стране — и не станет у нас захолустья. А с дуэлянтами я и сам встречался: вызвал меня граф Кампо-Сципио на дуэль из-за моей над ним насмешки. Но я ему, конечно, попросту предложил: драться согласен, но только на кулачках…
Старик Победоносцев хихикнул, и Васильев, не понимая, всерьез говорит Тентенников или просто балагурит, неопределенно сказал:
— Мы с вами о разных вещах говорим…
— Нет, не о разных, — упрямо ответил Тентенников и отвернулся от своего собеседника.
Глеб встал из-за стола и дернул Быкова за рукав.
— Не хочешь пройтись?
— Отчего же, пойдем… Васильев теперь, пожалуй, обдумывает кодекс воздушных дуэлей и не станет скучать без нас…
— И я с вами, — сказал старик, догоняя их и волоча свою тяжелую палку. — Мне в госпиталь надо. Скоро обход палат.
Госпиталь находился неподалеку, в буковой роще. Глеб повел оттуда Быкова по тихому перелеску. Было уже темно, прохладно. Вспыхнуло вдалеке крохотное, как уголек, пламя костра и снова пропало в темноте. Пар клубился в лесу, словно тлели деревья, издалека тянуло гарью и дымом. Тусклые огоньки — то ли отсветы карманных фонариков, то ли звезды, пробившиеся сквозь мглистую дымку, — мигали над переправой.
— Любимое место мое, — восторженно сказал Глеб. — Вечерами гуляю тут. Ходишь один по лесу, невольно обдумываешь жизнь. Не верится даже, что с той поры, как встретились мы впервые, только шесть лет миновало. Кажется порой, что я уже состарился и веку моего осталось очень немного. Подумать только, как много мы успели сделать за минувшие годы, — пережитого нами на три поколения хватило бы…
— А сам-то ты как живешь? — спросил Быков, пытаясь навести Глеба на разговор о Наташе.
— Смутно живу. Казалось бы, чего мне еще надо: госпиталь, в котором Наташа, неподалеку от нашего отряда: при желании можно всегда на день сюда выбраться, а вышло хуже, чем думалось… И жалею, что отпуск провел здесь, надо было в Петроград поехать…
— Не ладишь с нею?
— Давно на разрыв идет…
Он поморщил лоб, будто не смог сразу всего вспомнить. У прямых, откровенных людей бывают мгновенья, когда им обязательно хочется излиться, рассказать о самом сокровенном, личном, — в такую пору они способны делиться заветными своими думами даже со случайными знакомыми. Глеба радовало, что он сможет сегодня исповедоваться не чужому человеку, как бывало порой в минуту совершенного уныния, а старому и верному приятелю…
— Ты разве не знаешь, как отвыкают люди друг от друга? Ведь размолвка начинается незаметно, с мелких каких-то, незначащих вещей. Ссоры из-за пустяков, ругань из-за разбитого стакана. Сначала обоим невдомек, и вдруг наступает день, когда оба начинают чувствовать, что относятся друг к другу по-новому. Тотчас прекращаются ссоры. Отношения становятся спокойней, появляется предупредительность, боязнь обидеть другого, — так наступает второе предвестье разрыва. С тех пор как Васильев появился, почувствовал я: отходит от меня Наташа… Жалко ее, — сказал Глеб, раздвигая рукой кусты. — Мы сегодня на рассвете по этому самому перелеску гуляли. О нем, о Васильеве, двух слов не сказали, но чувство тяжелое было у обоих: словно рушилось все. Будто червь какой-то ее душу точит. Когда встретились мы с ней впервые, любила она вести странные разговоры: обречено, дескать, наше поколение, — живем мы в трудное время, испытания нам суждены большие… Мне это казалось тогда модной блажью. И объяснение легко было найти: красивая она, умная, — а жизнь поначалу неудачно сложилась — первый муж оказался беспутным человеком, потом стал преследовать ее своею любовью курчавый недотепа — помнишь, который появился с револьвером в ее номере, в Перми? Я тебе о нем рассказывал… Вот и стала она собственные неудачи всему поколению приписывать. Теперь то же у нее в голове: близится будто бы время распада, всеобщей гибели, и нет уже никакого закона человеческой душе. От жизни надо брать все, к чему сердце влечет, не раздумывая, не жалея… Она говорит, что отныне время таких людей, как Васильев, наступило, — беззаконников и себялюбцев. Он красив? — спросил Глеб.
— Красив…
— Может быть, и красив и умен, — нехотя согласился Глеб, — но растленный он человек, душа у него гнилая. Есть в нем, правда, какая-то сила: от него и не такие, как Наташа, с ума сходили. Подмигнет припухшим веком своим, оскалит мелкие зубы — и хоть на край света готовы бежать за ним.
— Почему же решил ты, что в Васильева влюбилась Наташа?
— Сам я догадывался. Да и Тентенников со мной разговор жестокий имел. Ты, говорит, можешь меня возненавидеть, но у меня на жизнь собственный взгляд: ничего нельзя от друзей таить. Вот потому-то я тебе правду скажу…
— И сказал?
— У него слова грубые, рубит сплеча…
— Ты, конечно, объясняться поехал с Наташей?
— Сначала на Тентенникова дулся, дня два не говорил с ним, да понял, что все это он рассказал по дружбе. Помирился потом, а с Наташей так и не объяснился… Тут новые дела подоспели, Лена из Петрограда приехала нас повидать. Вот дело и заморозилось.
— А когда же Елена Ивановна уедет?
— Завтра. Она теперь снова живет на старой нашей квартире: после смерти Загорского в отцовский дом вернулась…
— Как проводим ее, Глебушка, сразу поедем в отряд. Хочется поскорей посмотреть вашу армию. Ее хвалят, в других-то царевы генералы плохую славу завоевали…
Глеб замолчал, и разговор перебился, точно разучились приятели за годы разлуки понимать друг друга с полуслова.
— Славная она! — тихо промолвил Быков. — Ты знаешь, Глебушка, если бы я не был сед, я бы в Елену Ивановну обязательно влюбился.
— А ты и влюбись, — насмешливо ответил Глеб. — Я и то удивляюсь: за столько лет ни разу не подумал, что и тебе время приспело полюбить кого-нибудь.
— Это мне нелегко. Если полюблю, — то так же, как ты, сразу на всю жизнь.
День догорал над крутыми склонами гор. Тускнела заря, и Быков долго вглядывался в багряно-желтую даль. Через час они вернулись в белый дом над обрывом. Васильев дремал у окна, а Наташа сидела рядом с Тентенниковым и слушала длинный рассказ летчика о давнишних его похождениях. Бледным показалось Быкову ее осунувшееся напудренное лицо.
— Куда вы запропастились? — проворчал Тентенников, обрадовавшийся новым слушателям.
Он пустился в воспоминания, помянул добрым словом давнее время, когда пили шампанское за будущие успехи авиации и шумно приветствовали первых петлистов.
— Да уж, времечко было, — просипел он, вздохнув. — Вспоминается часто. И хотя немало с той поры прошло, а о старых голодовках со злостью думаю. Вот и сейчас мне невольно один случай на память пришел… Было это году в тринадцатом. Я с завода ушел, — подбил меня случайный знакомец разъезжать по городам и читать лекции об авиации. Я послушался, поехал вместе с ним. Осенью оказались мы в маленьком степном городке на Урале. Дни непогожие, хмурые, в городском саду пусто. Снял я помещение, стал читать лекции, а слушателей всего десять человек. Особенно мне одна старушка запомнилась. С биноклем пришла, в первом ряду села и после каждого моего слова вздыхает. Грустно стало, кое-как закончил лекцию. Денег даже за помещение заплатить не хватило. Вернулся в номер, а там еще трое человек собралось таких же, как я, голодных неудачников. Длинноволосый поэт, сочинивший стихотворение о босоножке и прочитавший его, как гордо уверял он, в сорока городах России, совсем захирел, — он уже четвертые сутки не ел ничего. Лектор в пенсне повсюду читал лекции о семейном вопросе, но и ему в степном городке не повезло: приехал он в самый мертвый сезон, после того как закрылась осенняя ярмарка. Третьим был гипнотизер — задумчивый мужчина, горький пьяница. Он как только в городок приехал, так сразу и запил; все деньги свои за несколько дней прогулял. Сидим мы на диване и думаем об одном: как бы пообедать? Вот и придумали, что спасти нас сможет гипнотизер. Ведь он может загипнотизировать хозяина трактира. Тот за опыт и заплатит ему натурой — каким ни на есть обедом… Сказано — сделано. Собрались мы, пошли вчетвером в трактир. С хозяином сразу сговорились. Только сам он гипнотизироваться не желает — дескать, сначала полового загипнотизируйте, а там уж и я посмотрю… Зовем полового. Он подбегает как угорелый. Мы ему тотчас обед заказываем, а гипнотизер твердит: «Посмотри мне в глаза, приятель! Очень мне нравится твое лицо». Половой вдруг испугался почему-то. И беда с ним приключилась: как станет он на стол накрывать, так у него все из рук валится. И самое смешное, что ножи и вилки не падают, а то, что бьется, обязательно на полу оказывается. Тарелок он штук пять перебил. Поэт — мужчина нервный, самолюбивый — решил, что во всем виноват гипнотизер, и тотчас ввязался с ним в драку, а мы с лектором ушли. Идем по городу, а сосет под ложечкой… Снова в номер вернулись, сидим, скучаем. К вечеру гипнотизер вернулся, принес два калача. «Я, — говорит, — когда мы в трактире сидели, еще не протрезвел окончательно и полового учил тарелки бить. Теперь же я в норму вошел и хозяина загипнотизировал. Одна беда: ни за что толстяк не просыпается. Так и ушел, не добудившись». Были мы сыты в тот вечер…