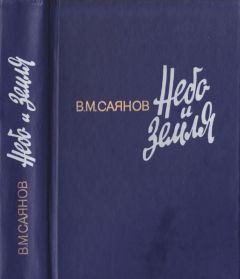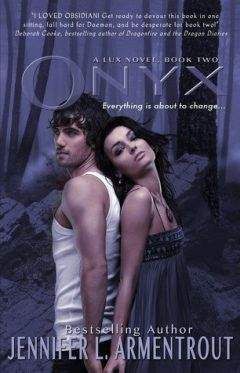Виссарион Саянов - Небо и земля
— И Елена Ивановна с вами живет тут? — спросил Быков, обрадованный неожиданной словоохотливостью старого Победоносцева.
— Она живет в Петрограде, сюда только погостить приехала ненадолго, и жалко ее отпустить и боязно здесь оставить, — видите, худенькая она какая стала — одни глаза светятся.
Сразу точно оборвалось что-то в груди у летчика, и только украдкой он решился еще раз посмотреть на Лену.
Стол накрыли в большой комнате с камином. Наташа поминутно подходила к открытому окну и вдруг, перехватив внимательный взгляд Быкова, тихо сказала:
— Жара-то какая… На севере еще, должно быть, снег в лощинах лежит, а здесь уже лето…
Глеб подошел к окну и тоже прислушался к медленному, тягучему скрипу телег, но Наташа и не поглядела на мужа.
«Кого она ждет? — подумал Быков, наблюдая за женой приятеля. — Не Кузьму же, конечно. Вряд ли Тентенников вскружил ей голову». В том, что Наташа не любит Глеба, Быков уже не сомневался и угрюмо рассматривал модель самолета, сделанную из старых газет, — биплан с сильно срезанными и закругленными спереди крыльями.
Послышались быстрые шаги. Кто-то спорил в коридоре. Быков узнал тотчас хрипловатый басок Тентенникова: по-прежнему слышалось в нем волжское веселое оканье.
— Покажись, каков стал, — сказал Тентенников, сходя в комнату и издали рассматривая Быкова. — Стареем, братец, с тобой, — промолвил он, обнимая приятеля. — У тебя, погляди-ка, голова седеть стала: снегом да солью волосы посыпало…
Они расцеловались, и Тентенников смахнул слезу с редких ресниц, все еще не выпуская Быкова из своих могучих объятий.
— Посидим сегодня, — сказал он. — Да, совсем позабыл тебя познакомить с Марком Сергеевичем.
Только теперь заметил Быков офицера, приехавшего вместе с Тентенниковым.
Невысокий поручик с узким смуглым лицом, с георгиевским крестом на потертой кожаной куртке, подошел к Быкову и, подергивая припухшим красноватым веком, приветливо сказал:
— Штаб корпуса известил меня, что вы отныне в моем отряде будете. Надеюсь, что теперь станем с вами ладить, жить в мире. А про старую нашу размолвку во время забастовки у Щетинина и вспоминать не стоит: молоды были, горячи, из-за всего могли затеять ссору… С годами-то поумнел я, терпимее стал относиться к людям…
Старые друзья — Быков, Тентенников и Победоносцев — были широки в плечах и высоки ростом; рядом с ними Васильев казался совсем небольшим.
Он был красив, приветлив, располагал к себе новых знакомых, и только улыбка, так красящая обыкновенно людей, старила его, обнажая светлые десны и мелкие, словно подпиленные зубы. Как бы весел он ни был, красивые и наглые глаза его никогда не смеялись, — вечная настороженность застыла в них.
Быков вспомнил, как поссорился с Васильевым во время забастовки в Петрограде (поручик сидел тогда в пролетке с Хоботовым), и, решив почему-то: «С этим человеком и теперь не буду жить в мире»«, тихо ответил:
— Нынче не время пререкаться из-за старой ссоры. Но прав-то, конечно, был я…
Васильев пожал плечами, словно выражая свое недоумение, и подошел к Наташе. Походка у него была быстрая, легкая. Остановившись возле окна, он широким и свободным жестом вскинул правую руку и ухватился за крюк, вбитый в оконную раму; к этому крюку была подвешена Глебом бумажная модель самолета.
Разглядывая неуклюжую модель, Васильев что-то сказал, улыбнувшись, Наташе. Быков заметил, как ласково блеснули ее прищуренные глаза.
— Что же, все в сборе, как будто, — сказал старик Победоносцев. — Приступим, пожалуй…
Загремели стульями, рассаживаясь за круглым столом. Быков нарочно задержался ненадолго, чтобы сесть поближе к Лене, и обрадовался, заметив, что место рядом с нею не занято.
— Снова мы рядом с вами, Елена Ивановна, — промолвил он, касаясь локтем ее острого худенького локтя и придвигая поближе стул.
Он долго смотрел на нее, точно узнавая в женщине с двумя тоненькими, как паутинки, морщинками возле уголков губ ту светловолосую девушку, что встретилась ему когда-то в Царицыне. Только лицо той девушки не было озарено внутренним светом, как нынче, — чувствовалось, что немало она пережила и передумала за минувшие годы…
Все здесь было по-домашнему просто, и не верилось даже, что неподалеку отсюда фронт, что лежат там люди в мокрых окопах, и круглые сутки гремят раскаты артиллерийской стрельбы, и сигнальные ракеты взвиваются над полями. За столом сидело семь человек. Только один из них — Васильев — был случайным знакомым, остальные были для Быкова свидетелями уходящей молодости — друзьями давней поры.
С Тентенниковым и Победоносцевым связано было навсегда начало летного пути: время ученья, пора молодых дерзаний. Старик Победоносцев дорог уже по одному тому, что он — отец Глеба и Лены. Только к Наташе не совсем дружелюбно относился Быков, редко встречался с ней до войны и ни разу, пожалуй, не поговорил серьезно, хоть давно уже решил, что она — особа с фантазиями, совсем не пара доброму и прямодушному Глебу.
— Я тост предложить хочу в память Нестерова, — сказал Глеб. — Сегодня три года, как была впервые исполнена мертвая петля. Вот и надумали мы с Тентенниковым поминки по Нестерову справить. — Он посмотрел на Васильева, сидевшего рядом с Наташей, словно только теперь заметил за столом своего недруга.
— За воздушную славу России, за Нестерова, — громко повторил он, — за человека, который был первым летчиком в истории, победившим в воздушном бою. Смертью заплатил он за победу. Он погиб так же самоотверженно и благородно, как жил. В час вражеской атаки на русские войска он вылетел на стареньком самолете навстречу врагу и протаранил самолет австрийского барона Розенталя. Имя первого человека, победившего в воздухе, навсегда сохранится. Звали его Нестеровым…
— Великий подвиг! — вздохнул Тентенников.
— А разве понимали значение авиации для России? — продолжал Глеб. — До войны на летчиков иные дельцы как на шутов гороховых смотрели. Помню, во время полетов объявили однажды, как в цирке, «спуск смерти», чтобы сборы увеличить. Самолет исполнял в тот день, под завыванье оркестра, воздушное танго. В газетах вечно сенсации печатали. Даже статейка была: «Модерн в авиации». А о тех, кто геройски жил и умирал, мало говорят народу. Вот Лена мне журнал привезла французский. Сколько в нем о военных летчиках говорится…
Он протянул приятелю номер журнала, и тотчас узнал Быков лица знаменитых летчиков Франции. Это были асы, тузы. Асом считался летчик, одержавший больше пяти воздушных побед. Лучшие асы были в прославленной эскадрилье «аистов»«, и прежде всего начал Быков искать портрет Ганимера. Ганимер считался в ту пору знаменитым летчиком. На портрете был изображен молодой человек, худощавый, может быть, даже болезненный, с глазами, в которых была и отвага солдата и застенчивость провинциального юноши. Внимательны были ясные глаза, смотревшие на Быкова из-под надвинутого на самые брови козырька форменной фуражки, тонкая мальчишеская шея была повязана шарфом, и светлый значок белел на кармане тужурки — изображение серебряного аиста в полете.
— У нас много летчиков лучше французских, — строго говорил Глеб, — но не повезло авиации в России. С самого начала торгаши да спекулянты захватили ее. А в аэроклубе знатные бездельники сидели… Да и в армии нашлись ретрограды, — до сих пор на летчиков с удивлением смотрят: как, дескать, вести себя будет, неужели и взаправду полетит?
Все засмеялись, и даже старик Победоносцев улыбнулся.
— Вы правы, нас не понимают, Глеб Иванович, — быстро заговорил уже немного опьяневший Васильев. — Такую силу недооценивают…
Устремив глаза в сторону, словно разговаривая с кем-то невидимым, Васильев продолжал, потирая руки:
— Авиация может стать самой большой славой страны. Мы — рыцари воздуха. Воздушный бой — всегда поединок, дуэль. Думая об авиации, я вспоминаю рыцарские турниры. Есть особенное благородство в воздушном бою. Один на один в небе я встречаю врага. Он падает, протараненный моим самолетом. Это — гимн новому крылатому человечеству. Я ясно представляю будущее — может быть, через полвека. Дуэлянты не будут становиться у барьера, отмеривать шаги, проделывать скучный обряд старинной дуэли. Спор в любви будет решаться высоко в поднебесье, двумя самолетами, на которых будут враги… Нужно только, чтобы летчик никогда не становился профессионалом. После войны авиация должна снова стать спортом, иначе она умрет…
Быков недовольно поморщился и наклонился к Лене:
— Слишком он говорлив, Елена Ивановна. Болтовня летчику не пристала: в небе, кроме шума мотора, ничего не слышишь, вот и приучаешься много думать, мало говорить. А Васильев и слова другим не дает промолвить, — видите, как его понесло, словно на крыльях. Попугай — тоже болтать любит, да летает зато невысоко…