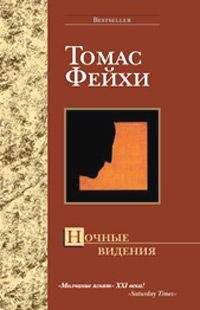Дмитрий Мережковский - Юлиан Отступник
— Так-то оно так… А все же-кончено. Опустел Олимп!
Юлиан посмотрел на него молча, с удивлением.
— Видишь ли, — продолжал Горгий, — ныне земля рождает людей столь же слабых, как и жестоких; боги, даже гневаясь, могут только смеяться над ними, — истреблять их не стоит: сами погибнут от болезней, пороков и печалей. Богам стало скучно с людьми-и боги ушли…
— Ты думаешь, Горгий, что род человеческий должен погибнуть?
Жрец покачал головой:
— О-хо-хо, сын мой,-да спасут тебя олимпийцы!все пошло на убыль, все — на ущерб. Земля стареет. Реки текут медленнее. Цветы весной уже не так благоухают.
Недавно рассказывал мне старый корабельщик, что, подъезжая к Сицилии, теперь нельзя уже видеть Этну с моря на таком расстоянии, как прежде: воздух сделался гуще, темнее; солнце потускнело… Кончина мира приближается…
— Скажи мне, Горгий, на твоей памяти были лучшие времена?
Старик оживился, и глаза его загорелись огнем воспоминаний:
— Как приехал я сюда, в первые годы Константина кесаря,-проговорил он радостно,-еще великие панегирии совершались ежегодно в честь Аполлона. Сколько влюбленных юношей и дев собиралось в эту рощу! И как луна сияла, как пахли кипарисы, как пели соловьи! Когда их песни замирали, воздух трепетал от ночных поцелуев и вздохов любви, как от шелеста невидимых крыльев…
Вот какие это были времена!
Он умолк в печальном раздумьи.
В это мгновение из-за деревьев явственно донеслись унылые звуки церковного пения.
— Что это? — произнес Юлиан.
— Монахи: каждый день молятся над костями мертвого галилеянина…
— Как, мертвый галилеянин-здесь, в заповедной роще Аполлона?
— Да. Они называют его мучеником Вавилою. Тому уже лет десять, брат императора Юлиана, цезарь Галл, перенес из Антиохии мертвые кости Вавилы в Дафнийскую рощу и построил пышную гробницу. С тех пор умолкли пророчества: храм осквернен, и бог удалился…
— Кощунство! — воскликнул император.
— В этот самый год, — продолжал старик, — у девственной сивиллы Диотимы родился глухонемой сын, что было недобрым знамением. Воды Кастальского источника, заваленные камнем, оскудели и потеряли силу пророческую. Не иссякает один лишь священный родник, называется он Слезы Солнца, видишь там, где теперь сидит мой мальчик. Капля за каплей струится из мшистого камня.
Говорят, что Гелиос плачет о нимфе, превращенной в лавр… Эвфорион проводит здесь целые дни.
Юлиан оглянулся. Перед мшистым камнем мальчик сидел неподвижно и, подставив ладонь, собирал в нее падавшие капли. Луч солнца проник сквозь лавры, и медленные слезы сверкали в нем, чистые, тихие. Тени странно шевелились; и Юлиану вдруг почудилось, что два прозрачных крыла трепещут за спиной мальчика, прекрасного, как бог; он был так бледен, так печален и прекрасен, что император подумал: «это — сам Эрос, маленький, древний бог любви, больной и умирающий в наш век галилейского уныния. Он собирает последние слезы любви, слезы бога о Дафне, погибшей красоте».
Глухонемой сидел неподвижно; большая черная бабочка, нежная и погребальная, опустилась ему на голову. Он ее не почувствовал, не шевельнулся. Зловещей тенью трепетала она над его склоненной головой. А золотые Слезы Солнца, одна за другой, медленно падали в ладонь Эвфориона, и над ним кружились звуки церковного пения, похоронные, безнадежные, раздаваясь все громче и громче.
Вдруг из-за кипарисов послышались другие голоса, вблизи:
— Август здесь!..
— Зачем пойдет он один в Дафну?
— Как же? сегодня великие панегирии Аполлона.Смотрите, вот он! Юлиан, мы ищем тебя с раннего утра!
Это были греческие софисты, ученые, риторы — обычные спутники Юлиана: и постник неопифагореец Приск из Эпира, и желчный скептик Юний Маврик, и мудрый Саллюстий Секунд, и тщеславнейший из людей, знаменитый антиохийский ритор Либани.
Август не обратил на них внимания и даже не поздоровался.
— Что с ним? — шепнул Юний на ухо Приску.
— Должно быть, сердится, что к празднику не сделано приготовлений. Забыли мы! Ни одной жертвы…
Юлиан обратился к бывшему христианскому ритору, ныне верховному жрецу Астарты, Гекэболию:
— Пойди в соседнюю часовню и скажи галилеянам, совершающим служение над мертвыми костями, чтобы пришли сюда.
Гекэболий направился к часовне, скрытой деревьями, откуда доносилось пение.
Горгий, держа в руках корзину с гусем, стоял, не двигаясь, с раскрытым ртом, с выпученными глазами. Иногда, в отчаянной решимости, принимался он растирать свою плешь. Ему казалось, что он выпил много вина и все это видит во сне. Холодный пот выступил у него на лбу, когда он вспомнил, что наговорил этому «учителю» об августе Юлиане и о богах. Ноги подкосились от ужаса. Он упал на колени.
— Помилуй, кесарь! Забудь мои дерзкие речи: я не знал…
Один из услужливых философов хотел оттолкнуть старика:
— Убирайся, дурак! Чего лезешь?
Юлиан запретил ему:
— Не оскорбляй жреца! Встань, Горгий! Вот рука моя. Не бойся. Пока я жив, никто ни тебе, ни твоему мальчику не сделает зла. Оба мы пришли на панегирии, оба любим старых богов — будем же друзьями и встретим праздник Солнца радостным сердцем!
Церковное пение умолкло. В кипарисовой аллее показались бледные, испуганные монахи, дьяконы и сам иерей, не успевший снять облачения. Их вел Гекэболий. Пресвитер — толстый человек, с лоснящимся медно-красным лицом, переваливался, пыхтел, отдувался и вытирал пот со лба. Остановившись перед августом, поклонился низко, достав рукою до земли, и сказал, точно пропел, густым приятным голосом, за который его особенно любили прихожане:
— Да помилует человеколюбивейший август недостойных рабов своих!
Поклонился еще ниже, и когда, кряхтя, подымался, два молодых проворных послушника, очень похожих друг на друга, долговязых, с желтыми, как воск, вытянутыми лицами, подсобляли ему с обеих сторон, поддерживая за руки.
Один из них забыл положить кадило, и тонкая струйка дыма подымалась с углей. Эвфорион, увидев издали монахов, бросился стремительно бежать. Юлиан сказал:
— Галилеяне! Повелеваю вам очистить священную рощу Аполлона от костей мертвеца — до завтрашней ночи.
Насилия делать мы не желаем, но если воля наша не будет исполнена, то мы сами позаботимся о том, чтобы Гелиос избавлен был от кощунственной близости галилейского праха: я пришлю сюда моих воинов, они выроют кости, сожгут и развеют пепел по ветру. Такова наша воля, граждане!
Пресвитер кашлянул тихонько, закрыв рукою рот, и, наконец, смиреннейшим голосом пропел:
— Всемилостивейший кесарь, сие для нас прискорбно, ибо давно уже св. Мощи покоятся здесь по воле цезаря Галла. Но да будет воля твоя: доложу епископу.
В толпе послышался ропот. Мальчишка, спрятавшись в лавровую чащу, затянул было песенку:
Мясник идет,
Мясник идет,
Острый нож несет,
Бородой трясет,
С шерстью черною,
С шерстью длинною,
Бородой своей козлиною,
Из нее веревки вей!
Но шалуну дали такого подзатыльника, что он убежал с ревом.
Пресвитер, полагая, что следует для благопристойности заступиться за Мощи, опять смиренно кашлянул в руку и начал:
— Ежели мудрости твоей благоугодно утвердить сие по причине идола…
Он поскорее поправился:
— Эллинского бога Гелиоса…
Глаза императора сверкнули:
— Идола! — вот ваше слово. Какими глупцами считаете вы нас, утверждая, что мы боготворим самое вещество кумиров-медь, камень, дерево! Все ваши проповедники желают в этом и других, и нас, и самих себя уверить. Но это-ложь! Мы чтим не мертвый камень, медь или дерево, а дух, живой дух красоты в наших кумирах, образцах чистейшей божеской прелести. Не мы идолопоклонники, а вы, грызущиеся, как звери, из-за «омоузиос» и «омойузиос», из-за одной йоты, — вы, лобызающие гнилые кости преступников, казненных за нарушение римских законов, вы, именующие братоубийцу Констанция «вечностью», «святостью»!
Обоготворять прекрасное изваяние Фидия не разумнее ли, чем преклоняться перед двумя деревянными перекладинами, положенными крест-накрест, — позорным орудием пытки? Краснеть ли за вас, или жалеть вас, или ненавидеть? Это — предел безумия и бесславия, что потомки эллинов, читавшие Платона и Гомера, стремятся… куда же?-о мерзость!-к отверженному племени, почти истребленному Веспасианом и Титом, — чтобы обожествить мертвого Иудея!.. И вы еще смеете обвинять нас в идолопоклонстве!
Невозмутимо, то расправляя всей пятерНей черно-серебристую мягкую бороду, то вытирая крупные капли пота с широкого лоснящегося лба, пресвитер посматривал на Юлиана искоса, с утомлением и скукой.
Тогда император сказал философу Приску:
— Друг мой, ты знаешь древние обряды эллинов: соверши Делосские таинства, необходимые для очищения храма от кощунственной близости мертвых костей. Вели также поднять камень с Кастальского источника, да возвратится бог в свое жилище, да возобновятся древние пророчества.