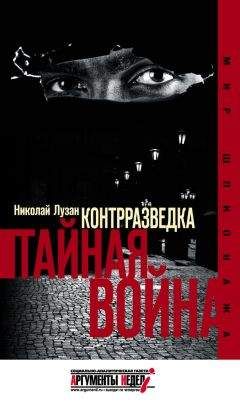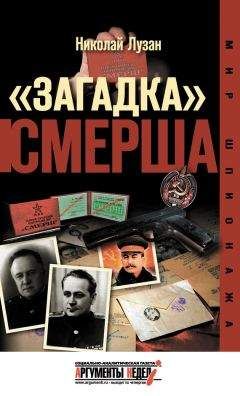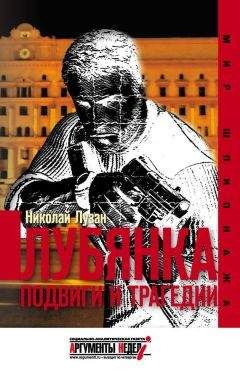Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
После причуд соленой стихии, после валянья с боку на бок, когда наконец встали впереди зеленые берега, когда и город явился в туманном отдалении, забрезжил башнями, россыпью каменных хором, и повеяло теплом, и лавром запахло оттуда, от далекого еще греческого берега, утопающего в сумерках близкой ночи, ночи благовонной и теплой, в роящихся россыпях звезд, — утихнуть бы сварам и ссорам! Ведь вот он, священный город, там, впереди, где плавают взад и вперед чьи-то вооруженные корабли, а тяготы долгого пути, почитай, назади остались. Но тут-то, в виду цареградских башен, и повело. Решились. Сейчас или никогда!
Митяй с вечера наконец-то плотно поел. Качать перестало, и вернулся к нему обычный несокрушимый аппетит. Ел стерляжью уху, разварную осетрину, каких-то морских незнакомых рыб и ежей, соленые овощи, запивая все темным греческим вином, и непривычное жжение во чреве спервоначалу и не насторожило даже. "С перееду!" — подумалось. Поднялся в темной корабельной клетушке своей выпить воды с лимоном, кувшин был пуст.
— Эй! Кто там! — Слуга полз как-то странно, на четвереньках. В по-темнях — одна лампада тускло мерцала — едва не упал, наткнувшись на ползущего на четвереньках клирошанина. Ругнулся, охнул — понял.
Да и тот бормотал:
— Господине, отрава! Госп… — Клирошанина вырвало.
Митяй схватился руками за чрево, рыкнул.
— Воды! — Вбежал холоп, нелепо дернулся к кувшину. — Воды! Любой! Забортной! Морской почерпни, смерд!
Пил крупно, давясь, соленую, точно мыльную, воду из кожаного ведра, пил вытараща глаза, глотал, вдавливал в себя, удерживая рвущуюся изнутри рвоту. Еще, еще, ну, еще! И вот облегчающий ком поднялся от желудка к горлу. Митяй, рухнув, склонился над вонючею ночной посудиной. Справясь, прохрипел: "Еще воды!" И в тот же миг помыслил про ползущего клирошанина. Но дверь отворилась, как-то враз и с треском. Внутрь корабельной палатки ввалились разом четверо, ухватили за плечи. Митяй рвался изо всех сил, цеплял непослушными пальцами, отрывая от горла чужие персты, хрипел, воздуху не хватало рыкнуть, а те, навалясь, душили, давили его, и чей-то — до того знакомый! — голос: "Пимена? Али самого Кочевина-Олешинского? — произнес над самым ухом. — Скорей!"
Новый приступ рвоты поднялся у него изнутри, пошло задавленным горлом, ноздрями, он задыхался, гас, сильное тело само уже дергалось в последних неистовых судорогах, не желало умирать, глаза яростно и безумно вылезли из орбит, все в кровавой паутине, так и застыли, отверстые. Те, что душили, с трудом отлепляли теперь сведенные судорогой пальцы от толстого могучего горла. Кого трясло, и кто-то выдохнул, погодя:
— Кажись, все!
От скосившейся набок лампады вздули свечу. Отравленный владимирский клирик еще ползал, стонал под ногами. Убийцы заткнули ему рот подушкою, дождали конца. Торопливо и неряшливо прибирали толстое грузное тело, вчетвером, толкаясь и теснясь, заволакивали на постель…
Наивно писать, что Митяй заболел, не выдержав тяжелого пути. Заболел и умер "внезапу" в виду города! Люди того времени выдерживали и не такое. Привычно было ездить в санях, в возках, на телегах и верхом, по жаре и по морозу. Привычно было трястись в долгих многодневных путях, едучи из Новгорода в Москву, из Нижнего в Киев, из Твери в Вильну, из какого-нибудь Любутска на Волынь. Да и какие такие особые тяготы мог претерпеть в пути этот ражий, полный сил и энергии муж, грядущий за властью и славой?
Нет уж, поверим сказанному Никоновскою летописью, не сомневающейся, как кажется, в насильственной гибели властного временщика: "Яко задушиша его" или: "Яко морскою водою умориша". "Понеже и епископи вси, и архимандриты, и игумены, и священницы, и иноци, и вси бояре и людие не хотяху Митяя видети в митрополитех, но един князь великий хотяше". Знали! Ведали и все на Москве, как совершилось дело. Уведал и князь. Но об этом — в свой черед. А пока о том, что совершилось после.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Двадцать девятого сентября произошло сражение флотилий Венецианской и Генуэзской республик. Одолела Венеция. Но бой этот ничего не изменил. Война продолжалась. Было не можно выйти из города, писал позже Киприан: "Море, убо латиною держимо, земля же и суша обладаема безбожными туркы".
Корабль русичей — генуэзский корабль, — прибывший через несколько дней после морского сражения, не мог пристать к греческому берегу. Их не трогали, убедясь, что на корабле мирное русское посольство, но и не пропускали к причалам вечного города. Тело Митяя, "погадав", вложили в баркас, "варку", и перевезли в Галату. Тут, в Галате, в генуэзских владениях, его и похоронили.
Иван Петровский в ночь убийства крепко спал и до утра не уведал ничего. А утром застал плохо прибранный труп и Пимена, роющегося в бумагах покойного Митяя.
От подплывавших к ним корабельщиков послы уведали уже об изгнании прежнего патриарха с престола. Новый, еще не избранный патриарх — взамен Макария, который посылал грамоты князю Дмитрию и Михаилу-Митяю на проезд в Константинополь — должен был теперь принять русское посольство… С чем принять?
И еще спросим: а не уведали ли убийцы допрежь того о переменах в Константинополе? Не потому ли и был задушен Митяй, что погиб, свергнут и заточен был его покровитель, патриарх Макарий? Или вспышка ярости, как грозовой разряд, поразила Митяя, и лишь после того начали думать убийцы: как быть?
Иван Петровский стоял над телом Митяя, глядя на вытаращенные, мертвые, так и не закрытые глаза, на вываленный язык, соображая, что перед ним следы преступления. Далеко не все в корабле ведали о том, что произошло ночью. И потому тело Митяя поспешили прикрыть, поспешили сплавить в Галату и предать земле.
И вот теперь наконец Пимен добрался до княжеских подписанных и утвержденных печатью грамот. Перед ним — протяни руку! — лежал митрополичий престол.
Хмурые, не глядя в глаза друг другу, собирались бояре и клирики. Надобно было что-то решать. На архимандрита Мартина, пискнувшего было что-то о Киприане, поглядели с таким недоумением, что бедный коломенский клирик тут же смешался и умолк. Они сидели в трюме, друг против друга, на грубых скамьях, на связках каната, на кулях, на бочонках с питьевой водой. Было тесно и страшно, ибо над всеми ними витало совершенное преступление. Кочевин-Олешинский был бледен и хмур. Пимен низил глаза, боялся поднять жгучий взор. Угрюмые, замерли Коробьины, оба знали, что их считают убийцами, хотя и тот и другой преотупление попросту проспали. Кажется, Федор Шелохов первый изрек, буднично и просто:
— Ну что, други? Надобно иного нам владыку выбирать. Раз уж поехали за тем!
И Азаков подхватил обрадованно, ставя на ночном убийстве размашистый косой крест, букву "хер", означающую конец, "погреб" всему делу:
— Из своих!
И тут вот и началась жестокая пря. Еще не опомнившиеся бояре и клирики сцепились друг с другом. Возникло сразу два имени: Иван Петровский и Пимен. Только эти, третьего не дано!
За Ивана — молчальники, за ним тень Сергия Радонежского. За Пименом, архимандритом Переяславским, — обычай и власть. Ибо он — держатель престола. Так полагал Юрий Васильич Кочевин-Олешинский, к тому же склонялись Невер Бармин и Степан Кловыня, к тому же склонялись оба толмача — Василий Кустов и Буил, многие клирики. И восстала пря, до возгласов, до руками и тростями махания, за груди и брады хватания и прочей неподоби, о чем и писать соромно. Перетянули бояре, перетянули сила, навычай и власть. За Пимена встал сам княжеский посол, Юрий Василия, за Пимена, подумав и погадав, встали в конце концов и Коробьины, уверенные в том, что престол и Князеву волю, как и волю покойного Алексия, надобно спасать, несмотря ни на что: не киевлянам, не Литве же отдавать власть духовную! А так-то показалось всего пристойнее: Переяславский архимандрит — наместник Алексия все же! А в ночном деле все виноваты они, все преступили закон, и всем не отмыться будет до Страшного суда.
Генуэзские корабельщики только покачивали головами, слушая клики, ругань и треск, летевшие из трюма. В ярости злобы и страха русичи, сцепившись, трясли друг друга за отвороты ферязей.
— Аз, не обинуяся, возглаголю на вы, единаче есте не истиньствуете, ходяще! — кричал высоким слогом Иван Петровский, вырываясь из лап Юрия Василича. — Убийцы! Убийцы вы есть! Умориша…
Ему затыкали рот: в доме повешенного не говорят о веревке. Бояре и клирики дрались. Генуэзский капитан, цыкнув на полезшего было в трюм матроса: "Оставь их!" — тяжело и тупо думал, что будет теперь ему от совета республики за то, что не довез русича до места живым?
— Да пусть разбираются сами! Умер и умер! — вымолвил он в сердцах. Теперь бы еще в Венецию, в полон не угодить. Посадят в каменный мешок, под землю куда, в сырь, ниже уреза воды, бр-р-р-р. Да на цепь… У них там, где этот "Мост вздохов", так, кажется, зовут, где тюрьма ихняя, просто! Выкупай потом семья да республика неудачливого капитана своего! Столько лет отлагал дукат к дукату! Свою галеру чаял купить! Неуж даром все? Да пропади они пропадом все, с митрополитом ихним!