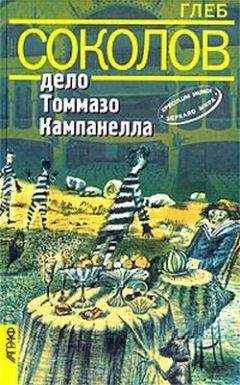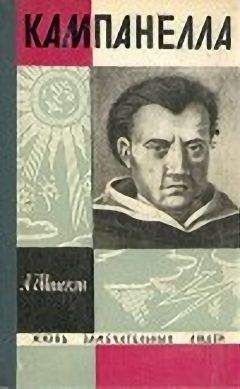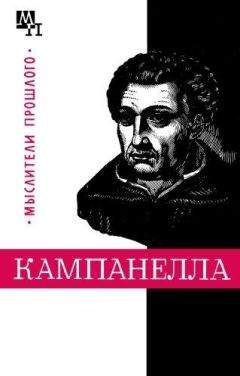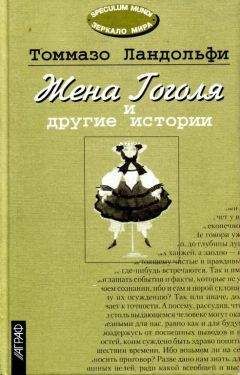Эли Визель - Легенды нашего времени
— Правда.
— Он рассказал мне и о том, как умер Саша. Он очень его любил, но вас он любил больше. Вы знали это, Малка?
— Нет, я этого не знала.
— Он считал, что вы более хрупкая, чем Саша. Что вы под большей угрозой. Он говорил мне: моя жена нуждалась во мне еще больше, чем мой сын. И я в ней. Вы это знали?
— Нет, я этого не знала.
— Пока Саша был жив, вы пели, вы веселились вместе. По вечерам, или в конце недели, вам случалось обниматься, говоря: у нас есть сын, красивый, счастливый, мы имеем право открыто выражать свою радость. Потом, когда случилось несчастье, Катриэль обнимал вас, думая: у нас был сын, он умер, но мы не имеем права плакать; погрузиться в печаль значит признать наше поражение. Ему было необходимо знать, что вы счастливы. Даже потом. Особенно потом. От вас, от вашего ответа, зависела его вера в будущее, в самого себя. Вы это знали?
— Нет, я этого не знала, — вздыхает Малка.
На другой стороне темной площади дрожат огоньки свеч; голоса нескольких молящихся, которые все еще поют псалмы, слабеют, напоминая то пение слепых, то шепот испуганного путника, заблудившегося в чаще леса.
— Мне холодно, — говорит Малка.
Я снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. Пальцы мои невольно касаются ее затылка и остаются там: я не в силах их отнять. Там их вечное место — с тех пор, как первое желание пробудило человека. Мне хочется трогать эту женщину, как Катриэль ее трогал, говорить с ней так, как Катриэль говорил. Пальцы мои слышат, как ее тело отвечает моему. Пусть исчезнет то, что нас разделяет: будем одно и не будем ни о чем думать.
— Мне холодно, — говорит Малка, вздрагивая.
Я тоже дрожу, а ведь мне-то не холодно. Напротив, я весь горю. Я задыхаюсь. А Катриэль? Я уже не знаю, чья жена Малка — его или моя, я даже не знаю, кто такой Давид — не Катриэль ли он?
— Пойдем, — говорю я в минуту просветления.
Малка встряхивает головой в знак согласия. Я помогаю ей встать. Завистливый, отвратительный Велвел издает коротенький сообщнический смешок. Цадок опускает веки, чтобы не показать, что меня осуждает. Шломо, участливый друг, шепчет:
— Иди, брат: ночь длинна, быть может, тебя кто-нибудь ожидает.
Сумасшедшие корчатся от смеха, нищие кричат слова ободрения и дают советы. Молодой летчик, вытаращив глаза и вытянув шею, давится от волнения. Меня зло берет: за кого они меня принимают? Какие намерения мне приписывают? Неужели они в самом деле воображают, что…
Мы обходим площадь. Малка берет меня за руку, и ее тепло проникает в меня. Мы усаживаемся под самой Стеной, в дальнем уголке, прямо на землю. Подумать только, что это могло и не произойти со мной. Подумать только, что это могло произойти с кем-нибудь другим.
— Говори, — просит Малка.
Она обращается ко мне на ты! Это что-то значит, но я лучше не буду об этом думать, не дам себя увлечь.
— Говорить? О ком вы хотите, чтобы я говорил?
— Все равно.
— О Катриэле?
— Все равно. О нем, о тебе. О нас. О ком хочешь.
— Как рассказать вам о нем? Он ушел слишком рано, слишком быстро. Раньше меня. Смерть убила своего посланца.
— Не говори о смерти. Найди что-нибудь другое. Расскажи мне о себе.
— Что вам хотелось бы узнать? Что смерть опять сыграла со мной одну из своих шуток?
— Не говори о смерти, — повторяет она, съеживаясь.
Я думаю о Саше, о Катриэле, о Гаде. Если бы Саша был жив, он как раз сейчас вступал бы в неблагодарный возраст, в мятежный возраст: он поставил бы под вопрос системы и ценности, разрушил бы установленный порядок. Когда-нибудь он обратился бы к отцу с вопросом: «По какому праву ты произвел меня на свет, скажи?».
— Твои мысли меня пугают, — говорит Малка. — Они удаляют тебя от меня, от нас.
За эти годы другие женщины не раз точно так же просили меня говорить или не говорить о пережитом, думать или не думать о нем. Их всегда интересовало только настоящее и будущее: они строили планы путешествий, общей жизни, любви, требовали верности и обещания вместе, обязательно вместе, бороться против всего, что может воспротивиться нашим шансам, нашим возможностям быть. Кусочек дороги мы проходили вместе, а потом я опять оставался один.
— Смотрите, Малка, — говорю я. — Гора движется. Она карабкается на небо. Посмотрите — гора карабкается на небо. Видите? Она врезается в небо.
— Я не вижу неба.
— А гору?
— Гору вижу.
— Расскажите, что вы видите.
— Мужскую голову. Тяжелую и темную. К ней запрещено прикасаться. Она берет в плен того, кто приблизится, кто попытается любить ее. Ее любит небо.
В своей огненной лихорадке я задаюсь вопросом, о ком она думает: обо мне или о Катриэле? Может быть — о Саше?
Полузакрыв глаза, она прижимается ко мне и предлагает мне свое лицо, свои трепещущие губы, свое желание. Как она осмеливается? С ума сойти можно. Неужели же я проделал всю долгую дорогу, чтобы попасть в эту ловушку? Я стискиваю зубы, напрягаю мускулы: надо сопротивляться, надо овладеть собой, чего бы это ни стоило. Давид обязан сделать это ради Катриэля и ради Малки, которая не только Малка. Катриэль — это все мои товарищи, которых я больше не увижу. Малка — это все женщины, которых я желал, любил и страшился. А я, кто я? Я так долго носился по всевозможным лабиринтам, так долго вызывал смерть, чтобы по ней определить направление, что уже не знаю, в чем смысл моего бегства и отречения.
— Вернись, — слабым голосом говорит Малка.
Малка ли умоляет меня вернуться? Откуда? Чтобы совершить — что? Чтобы любить друг друга? Здесь? Сейчас? Впору умереть со смеху: смешное время для любви, смешное место для отречения друг от друга. Но разве нельзя сказать то же о любом времени, любом месте, любой ситуации? Существует ли любовь, совершенно чистая от предательства? И разве любить не значит исключить себя из мира живых и мертвых? А сказать «нет» любви — не значит ли согрешить все тем же отрицанием? Вот в чем ловушка: «за» и «против» стоят друг друга. Ты меня слушаешь, Катриэль? Вы меня слышите, Малка? А вы, мужчины и женщины, судящие их, понимаете ли вы уже, что любовь не есть решение? И что не существует решения вне любви?
Ибо знайте: вот эту женщину, которая не принадлежит мне, я мог бы любить, любить по-настоящему, соединить свое дыхание с ее дыханием, свое ожидание с ее ожиданием. Быть может, кто знает, я мог бы даже спасти ее, указав путь, искру, которая сделала бы ее любовь не такой абсурдной, не такой бесчеловечной. Достаточно было бы слова, жеста. Она согласилась бы, я чувствую. Она была бы мне благодарна, я знаю. А Катриэль? Мы сумеем оттолкнуть его, забыть. Правда, он нас не забудет. Тем хуже. Я все-таки буду говорить.
— Малка, — шепчу я, — Малка, эта ночь нам не принадлежит, но я призываю ее и хочу, чтобы она была черна и никогда не кончалась; нет у меня ничего, кроме этой ночи, — пусть же она станет моим приношением, я так хочу.
И она отвечает:
— Кто ты мне? Просто средство помнить и ждать, чтобы стерлось отсутствие и появился куст и пламя? Нет. Переменчивое имя, покрывающее вечно открытое и неизменное лицо? Тоже нет. Все гораздо проще, гораздо конкретнее: ты то, чем я хочу обладать каждую минуту, чтобы обойтись без слов и без воспоминаний. Ты — та минута существования, благодаря которой я есть то, что я есть: женщина, которая верит в любовь, потому что любит, и верит в свободу, потому что предлагает себя тебе.
И пока мы разговариваем, наши руки, беспокойные, как руки пугливых детей, ищут друг друга, соединяются, сплетаются. Мне хочется засмеяться и завыть, но я боюсь разомкнуть губы. Я боюсь Катриэля, боюсь себя. Во мне такая жажда любви и прощения, что она давит мне на грудь и вот-вот раздавит совсем. У меня начинается бред: я — бродячий, заблудший путник, который только смотрит на людей, но не берет у них ничего; я — ребенок, который отказывается родиться, а Малка — умирающая принцесса, которая отказывается умереть. И мы с ней бежим, мы бежим вслед за галлюцинирующим кочевником с окровавленным ртом, а он бежит прочь от источника, своего и нашего, прочь, туда, в пустыню, где его будут преследовать боги. Мы бежим за ним и кричим: «Вернись, ты слишком молод, чтобы жить и умереть вдали от людей». Он нас не слышит. И тогда я говорю женщине, чтобы она уцепилась за меня и удержала и укрыла своей любовью. Я говорю ей: «В мире, который за пределами миров, люди шатаются, задыхаются и выбрасывают любовь за пределы любви и добро — за пределы добра. Солнце их ослепляет, а ночь делает немыми. В конце концов, отчаявшись в силе слова, они хотят быть сумасшедшими, нищими, мертвыми, отсутствующими, святыми; нет, они ничего не хотят, — только чтобы им дружески подмигнул кто-нибудь со спокойной душой, и чтобы была тишина, белизна руки, свет лампы вдали, в гостеприимной стране. Они одиноки и ненавидят одиночество, вот это одиночество, которое состоит из принуждения и угрызений совести. Другое одиночество их влечет и завораживает — то, что вызывает у них мучительную любовь и желание расцвести, распуститься, и широкий и вольный порыв к ближнему. Но мы, Малка, куда мы бежим? К какой любви, к какому одиночеству?»