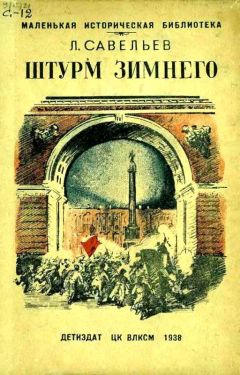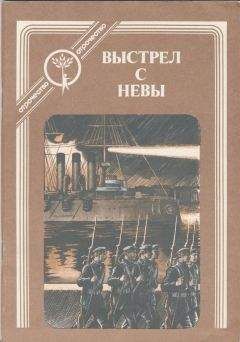Дмитрий Петровский - Повесть о полках Богунском и Таращанском
И когда батько посылал эскадронного Лоева вдогонку зарвавшемуся с кавалерией Калинину, он хотел на этот раз предостеречь его от рискованного решения задачи, так как хотел здесь решить ее сам.
При той быстроте соображения, которою обладал этот медлительный и важный с виду старик, можно было не сомневаться, что ой уже разглядел всю обстановку и правильно рассчитал ее.
Вышедшая из рейда кавалерия, вынесшая полное представление о состоянии сил противника, нужна была батьку для защиты флангов пехоты от обхода, так как батько решил вести пехоту «с гвалтом», на «ура» — в штыки. Батьку не терпелось сегодня же раздавить изменившую гадину и уничтожить предателей дотла. Больше всего на свете ненавидел батько предателей.
Лоев нашел Калинина выходящим из рейда. Батько был прав, когда посоветовал ему взять двух коней. Не только кони, но и сам Лоев был подранен при переходе холмистой местности, что лежала за волынским лесом. А Калинин уже ушел за холмы.
— Крути «восемь» и выкручивайся полным аллюром до папаши! Да дорубай все на полном ходу в капусту, приказал батько! Сам повел пехоту с гвалтом в штыки!
— Гей! Кидай барахло — гарбы, возы — выручай папашу! — скомандовал Калинин.
И вовремя вырвалась кавалерия из рейда на помощь грудью вклинившемуся между двумя петлюровскими дивизиями Боженко.
Батько уже развернул свой полк и отбивался артиллерией на картечь от обложивших его на этот раз петлюровцев и галичан.
Как выяснилось потом, весь план боя, с расчетом на втягиванье в него неистового старика, «красного генерала в лаптях», был разработан французским штабом, созданным интервентами при Петлюре.
И штаб, и планы, и даже французы были взяты в плен и доставлены во взятый Изяславль.
Батько только к ночи, доконав и разбив неприятеля, обосновался на новой штаб-квартире, усталый, но довольный победой.
Филька раскупорил бутылку французского коньячку, добытого в штабе. Батько понюхал его, повертел, посмотрел на непонятную этикетку и, приставив к губам, опорожнил, крякнул и, вытерши рукавом губы, закусил черным хлебом с салом.
— Давай-ка, Филя, чаюхи! Да позови мне эскадронных.
Батько занял Шепетовку и Изяславль одною кавалерией, пехота еще подходила.
— Лоева потребуется, папаша? Страсть человек говорить с вами хочет.
— Лоева? — поднял брови старик и вдруг будто стал озабочен. — Позвать, говорю! А про Орла ты мне доложь: для чего с конюшни выводил? Га?
Филя смутился:
— Такое вышло дело, товарищ комбриг: вроде как напужал он меня…
— Кто? Орел тебя напужал?.. Ну, зови! — сказал Боженко и, откусив кончик сигары, закурил. А когда Филя вышел, батько, достав из глубокого кармана френча фотографию, стал ее рассматривать. Улыбка шевельнулась было где-то в бороде, но тотчас же погасла. Какая-то внезапная озабоченность омрачила лицо; нежно погладив карточку ладонью, как бы стирая пыль, батько спрятал ее обратно и, бросив с досадой сигару, набил трубочку и энергично задымил, скрывшись за дымом, как во время сражения.
Вошел Калинин и с ним четверо эскадронных, позади всех Лоев с перевязанной рукой. Батько отыскал его глазами и, махнув рукой вошедшим, этим жестом приглашая садиться, обратился к Лоеву:
— По какой такой причине, голубь мой, выводил ты моего Орла с конюшни? И в чем было положение, про которое ты мне сумлевался доложить на поле боя? Да говори прямо, не виляй! А то я, тово, рассержусь, хоть и имеешь ты сегодня, скажем, передо мной геройскую заслугу.
Лоев стоял потупясь.
— На людях, батько, и то страшно сказать.
— Да ты не ври, говори! — заволновался Боженко, как бы почувствовав что-то недоброе за этим упорством.
— Мамаша твоя дорогая умерла, не серчай, отец, за горькую весть, — вдруг произнес эскадронный, и слеза блеснула в его рыжих ресницах.
— Как такое? Что ты мелешь?
Батько вскочил, и лицо его перекосилось от боли.
Все, кто был в комнате, тоже встали, зазвякав оружием. Каждый понял, о чем идет речь. Любимую жену свою звал Боженко «мамашей», после того как сам заслужил у бойцов прозвище «отца». Вернее сказать, что ее прозвали так полушутя за заботливость к ним бойцы, а уж вслед за ними стал звать ее так и Боженко.
Он ждал жену в гости к себе из Киева, куда отправил ее два месяца назад из-за тяжести похода. Трудно было в этом стремительном походе выкроить время для личной жизни; она была невозможна в этой суровой боевой обстановке.
И теперь, когда враг почти разбит, теперь, когда так хотелось герою отдохнуть на минуту, поглядев в спокойные глаза любимой женщины, — отнято это у героя, некому больше провести ласковой рукой по суровым сединам и разгладить морщины на его лице.
Не мог сразу поверить тому Боженко и закричал:
— Отвечай мне, эскадронный: где ты сведал на мою голову такое горе? Не может же этого быть, чтоб умерла моя матусенька, зозуленька моя! Неслыханно ж то дело!
— Не рад я, отец, высказать тое горе, да сам видал я смерть ее.
— Какая ж то смерть? — вновь закричал Боженко. — Убили ее? Кто убил?
— Убили, под поезд бросили, — отвечал Лоев.
— Где убили? Кто убил? Говори мне, отвечай!.. Контра у спину бьет! Знаю! Ножом у спину. Га? Собирайте войска к походу, командиры и эскадронные, зараз мы выступаем!.. — кричал батько и в бешенстве метался по комнате, потрясая кулаками.
ГОРЕ
Весть о батькином горе разнеслась во мгновение ока по всей таращанской бригаде, по всему Изяславлю и Шепетовке, вместе с приказом о выступлении. И еще не дошедшие с поля боя полки и батальоны услыхали об этом и поспешили к батьку.
Бойцы еще не знали, куда батько Боженко поведет их, да и батько еще сам не знал хорошенько, куда двинет он полки, — кто настоящий виновник смерти его жены. Но все понимали, что поход будет теперь не вперед, а назад, к возмездию.
По словам Лоева, подтвержденным еще некоторыми прибывшими из Бердичева бойцами, возвращавшимися из отпуска, выходило, что жену Боженко перерезало поездом на станции Бердичев.
Но как попала она под поезд? Была ли то ее неосторожность или ее кто-нибудь столкнул?
Со всей очевидностью было ясно, по крайней мере для самого батька, что смерть его жены не случайность, а замаскированное подлое убийство.
Во-первых, толковая и расторопная Федосья Мартыновна, имевшая специальный мандат на проезд в военных поездах в прифронтовую полосу, посланный ей Боженко, должна была иметь все возможные по тому времени удобства для проезда; все знали батька, и ее никто бы не посмел столкнуть с поезда, да она бы и не далась— женщина она была крепкая и решительная, из тех, кто не дает себя в обиду.
Да и дело было на самой станции Бердичев.
А между тем выходило так, что она попала под идущий поезд.
Как же это произошло?
Батько был в таком состоянии горя, и гнева, и отчаяния, что здраво и трезво проверить обстоятельства смерти жены в данную минуту он не мог и, по первому рассказу Лоева, всю тяжесть вины возлагал на железнодорожную охрану Бердичева.
Тем более что за время похода, в особенности по линиям железных дорог, батьку Боженко неоднократно приходилось иметь столкновения с железнодорожными комендатурами по поводу получения нужных для его войск эшелонов. Так, однажды Боженко избил плеткою какого-то расфранченного коменданта в пышном красном галифе, показавшего ему фигу. А в самом Бердичеве расстрелял, приговорив судом трибунала, уже целую банду, затесавшуюся в комендатуру и создававшую систематически пробку с эшелонным продвижением по этой важной узловой бердичевской линии, — да еще в самый разгар сражения.
И вот ему теперь казалось, что смерть жены под колесами поезда именно на станции Бердичев — не случайное совпадение, а совершенно очевидная месть со стороны еще не добитого осиного гнезда вредителей, забравшихся в комендатуры железнодорожных узлов.
У каждого человека есть живое, так называемое «слабое» место, и единственным «слабым» местом Боженко, закованного в латы несокрушимой боевой воли и с презрением относящегося к смерти, — единственным уязвимым местом, открытым для чувства и не защищенным. волей, была его любовь к жене, прекрасной простой женщине, избравшей для любви своей самого верного и самого отважного.
Она отдала ему всю свою душу, и батько знал это и не нашел бы никакую цену высокой, чтобы оценить эту горячую, полную любовь.
«УДАРИВСЯ СТАРЫЙ БОНДАР ОБ СТИНЬ ГОЛОВОЮ»[37]
В то время как Изяславль гремел и пылил, весь поднятый на ноги, и вся Тараща готовилась к походу, стягиваясь отовсюду, батько Боженко бился головою о стену и то плакал, как ребенок, то ревел, как пленный лев.
— Милая моя! Голубонька моя!.. Ох, и що ж то ты наробыла?.. Так хиба ж ты?.. Свои?.. Та хиба ж то свои?! То ж агентура, то ж Петлюра, а не советская власть… Задавили мою любу! Хто мени верне мою любу… сердце мое?.. Хто мени мою душу верне?..