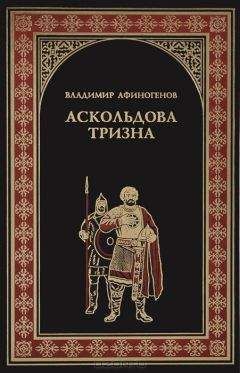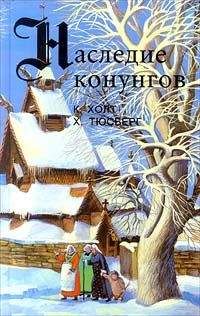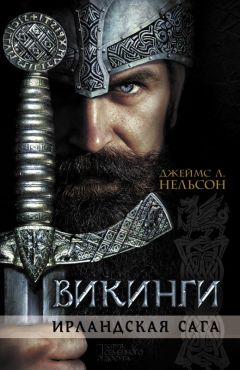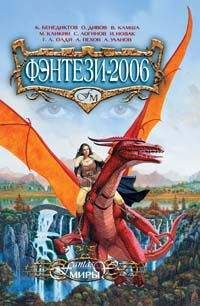Владимир Афиногенов - Аскольдова тризна
— Любава! Любава! — позвал служанку Фарра, спустив с лавки раскоряченные, в синих прожилках толстые ноги на до блеска выскобленный пол.
Не вошла, влетела девушка с русой косой, пунцовыми пухленькими губами и смеющимися ямочками на твёрдых, как наливное яблоко, щеках.
— Слушаю тебя, мой господин, — игриво произнесла она, и глаза её, зеленоватые, как у кошки, вспыхнули.
— Почеши мне спину, любезная… — потянулся, зевая, иудей. — Ой, как хорошо! А теперь живот почеши… Наклонись. Ай да молодец, Любавушка… Серьги скоро от меня получишь… Золотые.
— Ты только обещаешь, господин, да не даёшь.
— Хорошо! Ой, хорошо! Пониже возьми… Вот так! Получишь, моя любимая, обязательно получишь…
— Господин, жена увидит — попадёт нам обоим.
— Ничего, я ей тоже серьги куплю.
— Лия твоя золото очень любит.
— Возьми в руки, Любавушка… И пальчиками погладь… Погладь пальчиками… Ой, моя драгоценная!
— Господин, а ещё твоя Лия конюха Володея любит…
— А ну цыц, дурёха!.. Вечером ко мне придёшь, поговорим об этом. И почешешь мне ноги, вишь, опухать стали…
— Береги себя, господин мой, — весело прощебетала девица и упорхнула.
Фарра подошёл к окну, растворил его; хозяин меняльной лавки мог позволить себе иметь окна в доме из настоящего стекла, привезённого из Херсонеса. А раскрыл створки не потому, чтобы лучше обозреть открывающуюся сверху, с Зайковой горы, картину природы, а вобрать в грудь бодрый воздух, сразу нахлынувший с днепровских низин и из хвойного леса, росшего с восточной стороны жилища.
День для Фарры начинался хорошо, если бы не заноза, которую оставила в его сердце Любава: иудей и раньше замечал, что перед тем, как сделать распоряжения дворовым внизу и на конюшне, Лия подолгу сурьмилась и румянилась, надевала лучшие платья.
Поначалу он радовался тому, как следит за своей внешностью жена, видел, что её миндалевидные глаза, высокая грудь и крутые бедра нравились многим вятшим, а особенно степенному арабу Изиду, который длину ног Лии не хулил, а возводил в достоинство, исходя из восточных воззрений на красоту женщины. И вот на тебе! Новость… А жена, оказывается, полюбила конюха Володея, мизинного человека, но красивого и холостого.
«А если его женить?! На Любаве… — Фарру эта мысль развеселила. — Забавно будет: моя любовница станет женою любовника моей жены… Во-о, ситуация! Как в кукольном театре… Хотя, успокойся… Мало ли чего наплетёт языком дурёха…» — И иудей колыхнул в смехе живот, затем согнувшись, ударил себя кулаками по толстым ляжкам.
«Ладно, буду одеваться», — решил и позвал слугу.
Но тут в дверь постучали, и Лия, непричёсанная, в несвежем халате, вошла на половину мужа.
— Фарра, тебя какой-то человек внизу дожидается… Впустить?
— Погоди… Подождёт. Сам к нему выйду.
Покосился на жену недовольно: «Ко мне может зайти в любом виде… Стерва! Знать, не волную я её теперь как мужчина… Где наши молодые годы?! То время, когда мы любили друг друга. Всё уходит, исчезает, как утренний туман над Борисфеном… И если после него воды реки очищаются, то в душе моей становится ещё мутнее. Сие называется старостью. Она уже подступает…»
— Уходи, смотреть на тебя, неопрятную, не могу.
— Знаю, на кого можешь.
— Знаю и я про тебя… Потому — помолчи.
Жена ушла, громко хлопнув дверью. Фарра плюнул ей вослед.
«Что мне нужно теперь? — задал себе вопрос. — Почёт, уважение друзей и сородичей… Свершу дела свои в Киеве, уеду в Итиль, заживу в знатности и богатстве… А человек внизу, уж не посланник ли Массорета бен-Неофалима?»
…Отныне люди Яромира, которые по приезду в Киев установили наблюдение за иудеем Фаррой, всё чаще стали видеть его, выезжавшего на рысаках с Володеем будто бы по своим делам, за городом, на засечных его границах.
А спустя несколько дней сын Светозара отрядил своих людей для тайного сопровождения посланника хазарского советника, которому Фарра передал план укреплений Киева со словами:
— Подтверди ещё раз Массорету бен-Неофалиму — первому человеку в Итиле после царя и кагана — моё верноподданническое к нему отношение и передай, что сии оборонительные сооружения вокруг Киева остаются пока в неизменном виде. Если и будут далее укрепляться, то лишь углубятся, как того требуют рвы, или же вырастут, где воздвигнуты крепостные валы. Я их хорошо обозначил. И ещё передай: если задумано идти на Киев, надо делать это не мешкая, пока Дир у древлян. Брать Киев приступом нужно от рек Глубочицы и Клова, я там в плане тоже пометил, а от Борисфена города не взять, также как и от Почайны… Ну, Яхве и наши первосвященники с тобой, гонец!..
Яромир отбыл к Диру на Припять, а люди его начали следить за продвижением хазарского посланника и следили за ним до самой оконечности земель Руси Киевской, затем изловили и привели к Аскольду, ещё здесь находившемуся.
Киевский князь и боил Светозар показали гонца его сообщнику, ранее вызволенному из темницы, — тот сразу признал своего напарника. На малом совете стали думать, как извлечь из создавшейся обстановки пользу. Спорили долго, пока не пришли к общему мнению: гонца, побывавшего в Киеве, жизни лишить, а план изменить до неузнаваемости и подкинуть его вместе с убитым на порубежные земли Хазарского каганата…
Так и сделали. И скоро с поддельным планом мёртвый был доставлен в Итиль, где гонца сразу опознали.
Дир возвращался от древлян, и случилось с его дружиной такое, какое только в сказке услышишь… Видели когда-нибудь, как поднимались вверх люди вместе с конями, телегами, деревьями, вырванными с корнем и улетали невесть куда?.. Не видели. А вот сие было!
Но пока вернёмся к Доброславу, покинувшему Великоморавию, а затем и Византию и уже едущему по крымской земле и которому тоже привелось наблюдать подобное.
Ехал, любовался просторами родных степей и тихо радовался. «Спасибо карлику Андромеду… Поведал мне: заезжала Аристея в таверну «Небесна синева», интересовалась мной. А на митрополичьем дворе в Херсонесе узнал, что погиб тиун, её муж… Так ведь древлянка теперь свободна! — радостно заколотилось сердце у Клуда. — Как увижу её, скажу: «Выходи за меня замуж…»
Над вершиной синеющего вдали холма плавно, кругами, парил орёл. Тихо.
Конь шёл ходко, легко. Свободно. И Доброслав давно не испытывал в душе такого умиротворения… Да, почитай, с того момента, когда запалил свой дом в селении и отъехал из него с Дубыней… Два года прошло! Во-о, как время летит. Не орлом парящим, а резвым вороном…
«А что задумано — сделано! Найду жреца Родослава, расскажу ему о дочери: жива, мол, богата, дети есть… Не буду только молвить, что была замужем за Иктиносом… За виновником гибели рода… И что отомстил я ему, хорошо отомстил! Об этом, конечно, поведаю…
По-хорошему, по-доброму расстался я с Леонтием, Константином, Мефодием. Сколько нужного, полезного я взял от них!.. Может, и они от нас с Дубыней что поимели… Но сие уже в прошлом.
А теперь первым делом — повидаю Настю, полугречаненка её, полудревлянина… Хороший мальчуган. А вдруг и сыном станет?!»
— Научу его из лука стрелять, мечом рубить… Под водой дышать, как умеют все воины-русы, когда врага выслеживают… Правильно я говорю, Бук? — Доброслав обернулся к другу, также легко бежавшему рядом.
Пёс поднял голову, чуть оскалил пасть, будто улыбнулся…
— Нравится тебе дома, Бук?.. Вижу, нравится… Небось маму вспомнил, отца-волка?.. Приедем к Насте, покатаешь на своей спине её сыночка. Теперь уж подрос он… Тяжелее тебе станет — катать его. Да ничего… Ты — сильный!
Но тут Клуд заметил, что Бук забеспокоился… И что лошадь сбилась со скорого шага. А орёл перестал кружить над вершиной — исчез куда- то…
Подул ветер. Потемнело. Потому что в небе, почти над головой, появилась чёрная туча; её пригнал ветер как раз со стороны холма, над которым парила птица.
Туча прямо на глазах стала расти, взбухать; возникла другая.
Встретившись, они слились воедино, потом стремительно завращались.
Часть крутящихся обрывков вдруг устремились ввысь, и начался дождь.
Не засверкали в таком случае молнии и не затрещал гром: просто закапало, потом дождь пошёл сильнее, и — будто хляби небесные разверзлись — сплошным потоком полилась вода.
Внезапно дождь прекратился, установилось затишье, скорее — безмолвие, ибо вокруг ничего не происходило: не распевали птицы, они попрятались, звери тоже залезли в норы; не шелохнувшись, стояли деревья, и даже речка, пробиравшаяся в густой зелени, словно замерла… Лишь Бук рядом завыл, и звук его голоса жутью отдался в сердце язычника.
Клуд пустил галопом коня и доскакал до облюбованной большой пещеры в скале прежде, чем ударил град.
Ледяные шарики запрыгали по земле; падая с неба, они с каждым мигом увеличивались в размере — вначале были с яблоко, потом сделались величиной с увесистый мужской кулак…