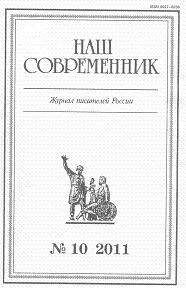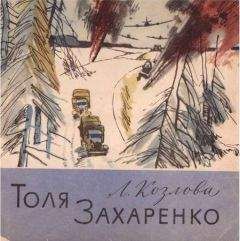Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
Сидит в Митиной избенке, помаленьку выпивает. От луны светло, как днем. Тихо.
Вдруг ровно в полночь влезает в окно Митя — голый, весь в чешуе, переметом обмотанный, тайменьи крючки в тело впились. Вполз и спрашивает:
—
Кто тут расхозяйничался?
—
Не ругайся, кореш. Садись выпей со мной, закуси, — пригласил Кенка.
—
Какой я тебе кореш?! — взвился Митя и хлесь Кенку по щеке, тот и упал без сознания.
Утром очухался, смотрит: бутылка спирта выпита, а стаканы вверх дном перевернуты. Вот страсти-то!
С тех пор избенка перестала пугать, кони успокоились.
А у Кенки на щеке синий рубец так и остался на всю жизнь. Может, это памятка от зоны, а?
КРИВУНЫ
Жили в нашей деревне два кривуна — Степа да Гоша. Дружили, не разлей вода. Степа бригадирил в колхозе, а Гоша счетоводил.
Глаз Степе жена кнутом выстегнула. Возила снопы на колхозное гумно, прихватила муженька там с вербованной хохлушкой — и выстегнула.
Гоше на вечерке пароходские ухари глаз порушили. Пароходские, помню, завсегда флотскими пряжками дрались. Не успел пароход якорь отдать, а они — в баркас, и на берег. Намотают на руку ремень, и пошли наших ребят чехвостить, девок самускать. Зазевался однажды Гоша, ему в глаз эта самая флотская пряжка и прилети.
В деревне быстренько придумали дружкам прозвища. Степу стали звать Кривушей Длинным, а Гошу — Кривушей Коротеньким, росточка он был метр двадцать вместе с шапкой.
Так что я хочу сказать… Ах, да! Кривуша Длинный кое-что петрил в колдовстве. Травки всякие, корешки шибко знал. Не только скотину, даже людей от «сглазу» лечил, умел «хомуты» снимать. От любой ухажерки ухажера отсушит или, наоборот, присушит, только пол-литра поставь.
Вековала в нашей деревне Нютка-скотница, лицо сплошь в бородавках, а на них волоски растут. Ножонки у горемыки ухватом — на подводе свободно проедешь, не зарочишь. Смех и грех, прости господи… Ребята ее и за девку-то не считали.
Что этот Кривуша Длинный удумал? Похвастался на разнарядке в конюховой: «Хотите, бабы, я к Нютке нашего тяпу-ляпу агронома присушу?» Нам потешно, подначиваем: «Куда тебе, филин, с одним глазом…»
Присушил! Агроном — молоденький, из себя евреистый, все на почту шмыгал, с городской невестой по телефону лялякал. Тут как обрезал. Ходит за Нюткой по пятам — теляш теляшом. Навоз ей помогает со скотного двора вывозить, то да сё. Помогал-помогал, и сошлись. Пожил с ней сколько-то и скрылся. Нам непонятно: такая любовь у них была — и на тебе… Нютку в допрос — молчит, как в рот воды набрала. Молчит, а у нас от любопытства мозги набекрень. Спасибо, Кривушу Коротенького осенило: у Нютки раньше тятя на золотом прииске старался!
Нютка захворала, слегла. Давай бабы Кривушу Длинного молить: вылечи, Христа ради, сиротинку. Жалко, человек все-таки… Он и стал ее ходить лечить. На разнарядках бабы хихикают, лекаря подкусывают: «Как там Нютка?» Зыркнет глазом, будто молнией опалит, и разговор на другое перекинет.
Война началась, похоронки в деревню посыпались, не до шуток бабам стало.
Война войной, а жизнь жизнью. Разрешилась Нютка ребеночком. На алименты подала. Кривушу Длинного в заявлении отцом указала.
Тот, как узнал, добровольцем на фронт стал рваться. Отказали. Кому нужен на фронте кривун? С одним глазом-то своих же перестреляет. Загулял с горя, ходит в обнимку по деревне с Кривушей Коротеньким, шепчется.
Вскоре ему повестка пришла из районного суда. По-о-ехал с песнями в город и дружка в свидетели прихватил.
На суде не запирался. Что было, то было, ходил Нютку лечить. Дружок поддакнул: тоже Нютку лечил. Сами хитро перемаргиваются: шиш, дескать, разберетесь, чей ребенок, — оба кривуны, и оба лечить ходили.
Суд посовещался и вынес решение… тому и этому алименты Нютке на ребенка платить.
Зря кривунам алименты припаяли. Слышь-ко, ребеночек-то подрос, на того беглого агронома стал пошибать — особливо носиком и ушками.
Кривуша Длинный и Кривуша Коротенький жалобу Сталину накатали. Вождь прочел ее, посмеялся и отписал: «Смотрите в оба за ребенком, чтобы настоящий советский гражданин вырос! А вашего агрономишку мы уже поймали…»
ХОД КОНЕМ
Приехал к нам откуда-то из-за Урала Слава Разин. Поступил на почту монтером. Нацепит железные когти, обмотается цепью и лазит по телефонным столбам, песни поет. Веселый мужик! Палец покажи — захохочет, аж провода лопаются. Шахматист был, я тебе скажу, каких белый свет не видывал.
Жена и теща голодом Славу морили — редко готовили. Одежонку сам себе стирал. Надоел ему кавардак в семье, вот и начал делать ходы конем.
Жена и теща, к примеру, Славу у кладовщицы Зины ищут, а он у телятницы Глафиры пельмени наворачивает. Они к Глафире — он у Зины щи хлебает.
Порыскают-порыскают по деревне, пошарят-пошарят по вдовьим гнездам, приплетутся домой: Слава за столом сидит, голый чай швыркает.
Глянет исподлобья на нерях:
—
Опять ужин не сготовили? Хоть кол на голове теши. Возьмусь я, однако, за вас, лентяйки.
Молчат: не пойман — не вор. Начинают жарить-парить, пуговицы пришивать. Неделя прошла — опять мышей не ловят, опять ходы конем пошли. И никак с поличным Славу поймать не могут.
—
Проверь, Нюрка, — стропалит мать, — может, у нашего нетопыря крылья на спине выросли?
—
Не городи, мама, ерунду, — сердится дочь, — какие крылья?! Позавчера со столба хряпнулся, всю ночь охал: то пить ему подай, то горшок…
Однажды неуловимый шахматист сделал ошибочный ход. Шел огородами к Зине, а Глафира засекла. Обуяла вдовушку ревность. Сделала ответный ход… этой… как ее… ну да, туркой. Кликнула жену и тещу — айда к Зине. Все в избе вверх тормашками поставили, даже в печку заглянули — испарился Слава.
—
Куда мужика, Зинка, дела? Не в трубу же он вылетел? — пытает Глафира. — Своими глазами видела, к тебе зашел.
—
Опомнись, Глашка! Зря напраслину буровишь. Отроду женатиков не привечала. Нужен больно… чер-р-рт полосатый… И вообще тебе-то что за дело до чужого мужика? — Зинка схватила голик. — Ну-ка, выметайтесь отсюда, пока я председателя сельского совета не позвала…
Прискакали жена и теща домой, а Слава за столом сидит, голый чай швыркает. Исподлобья смотрит.
—
Опять ужин не сготовили, лентяйки? Хоть кол на голове теши. Доберусь я до вас…
Женщины молчат: не пойман — не вор.
Теща подозревать стала, что зять на помеле верхом по воздуху летает.
—
Нечисто здесь, дочка, ой, нечисто! Всмотрись-ка ему в шары — черти в них так и пляшут вприсядку. Окрутила бабника нечистая сила.
—
Брось, мама, ерунду городить, — плачет Нюра. — Век прожила, а ума не нажила.
Сплетни о нечистой силе по деревне поползли. Чирошный телефон! Особенно заинтересовались молодухи, стали следить за Славой. Посоветовали жене и теще обратиться к верующей бабушке Лукерье, ее, дескать, шибко нечистая сила боится.
Бабушка сходила в гости к Зине и Глафире — в горницах у них опрятно, на столах пироги и шаньги от солнышка жмурятся.
Заглянула к Разиным и охнула: окна не мыты, по углам висит паутина, на столе картошка в мундире да килька в томатном соусе. Поняла все. Давай стыдить нерях:
—
Как еще с такими охредями мужичонка живет, по снегу босиком не гонят? Мой бы старик давно на одну ногу наступил, за другую взялся — и вдоль разорвал. Варите, обстирывайте, чистоту в доме соблюдайте — лад в семье будет.
Перекрестилась и метнулась соболюшкой на свежий воздух из разинской избы.
Только жена и теща ужин приготовили — деревенские молодухи в двери. Одни докладывают: