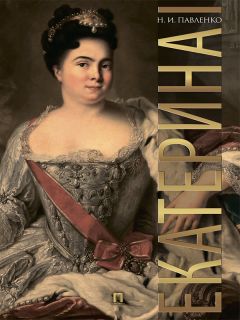Александр Марков - Троица
Октября 23-го дня
От перебежавшего поляка узнали мы, что Струсь, главный воевода осадных людей в Кремле, и прочие польские начальники не чают более от нас здорово отсидеться или дождаться подмоги, и о сдаче помышляют. А Федька Андронов и иже с ним, изменники русские, молят их не сдаваться, ибо разумеют, что лучше им голодную смерть восприять, чем живыми в наши руки попасть.
Из Троицы приехал сам архимандрит Дионисий; благословляет храброе воинство на последний подвиг. От Аврамия нам с Настёнкой писание дружеское передали.
Октября 24-го дня
Осадные поляки объявили, что хотят вывести из Кремля всех московских бояр и русских людей, а после могут и сами сдаться, ежели мы поклянемся им жизнь сохранить, а также имение, и отпустить их свободно в Польшу.
Нынче в полдень Троицкие ворота Кремля отворились, и первым вышел на мост князь Федор Мстиславский (брюхо же его, прежде толстое, отвисло, опустев, и сам он едва ноги переставляет), а за ним следом все московские бояре, которым посчастливилось с голоду не помереть. Я же был наипаче доволен и рад увидеть Мишку Романова, Филаретова сына, но подойти к нему за теснотою не возмог, а мать его, инокиня Марфа, нисколько не медля, увезла его в Кострому в Ипатьевский монастырь, где бы могли они после осадных тягот покойно отдохнуть и откормиться.
Во время исхода боярского едва не учинился у нас бой с казаками, они же хотели бояр схватить и ограбить и порубить как изменников, а Пожарский этому воспротивился и стал бояр защищать. Насилу казаков усмирили. А взяли под приставы только Федьку Андронова и ближних пособников его, и пытку им учинили тотчас, и доселе их истязать еще не перестали.
Октября 25-го дня
Сдались, сдались хохлы окаянные, все ворота кремлевские отворили и город Кремль нам сдали. То-то радость! А сами поляки как мешки с костями, только не гремят, да того гляди рассыпятся. Кабы не голодом принужены, не сдались бы; ныне же так изголодались, что ничего, кроме жизни, себе не выговорили; имения же их розданы казакам Трубецкого. А у пяти тысяч добро питаемых поляков мы бы вовек Кремля не отняли, осмелюсь прямо сказать.
Бумага в конец приходит, осталось два листочка. Зрю в том знамение Божие: да остановлюсь. Жизнь человеческая земная скоротечна, но и ее никто не может до конца исповесть; что же скажем о великих царствах земных и о течении времени бесконечном, иже до Судного дня длится беспрерывно? Всякому писанию положено конец иметь; а здесь концу место доброе: город Москву освободили, царство Российское от латинского злого владычества избавили.
Поелику же полтора листа еще осталось, поведаю о торжественном вхождении нашем в город. Ибо не хотели после такого трудного подвига, двухлетнего тяжкого поборания ратного, войти в город попросту. Урядили полки: наши у Ивана Милостивого на Арбате, казачьи по другую сторону града, за Покровскими воротами. И велели всему воинскому чину петь песни боевые победные. И князь Пожарский, прекрасно убраный и на коне великолепном, поехал впереди воинства, а мы за ним пошли к Китая города Неглименским воротам. Предваряли же шествие войсковое святители русские с честными крестами и иконами. Архимандрит Дионисий первым шел, архиерей достойнейший, добродетелью славнейший, великими и достохвальными подвигами своими нашей нынешней победе премного пособивший.
В Китае городе у Лобного места встретилось наше воинство с казаками, коих князь Трубецкой привел урядно и чинно, с казачьим протяжным пением, с крестами же и с образами. А из Фроловских, ино Спасских ворот Кремля туда же к Лобному месту вышли святители православные, бывшие у поляков в неволе на Москве: архиепископ Арсений и прочие, а несли они преславную чудотворную икону Божией матери Владимирской. И от этого великая радость была всему воинству, ибо не чаяли сию икону увидеть вновь после польского пленения, и мнили ее погибшей от рук еретиков.
И, отслужив молебен у Лобного места, пошли все в Кремль новообретенный, к соборной церкви Святой Пречистой Матери Слова Божия, честного и славного ее Успения, сему же храму имя попросту: Пречистая Соборная. Но здесь не возмогли молебен служить ради многой скверны, поляками во храме сотворенной.
И мы с Настёнкой и со многими иными достойными людьми до вечера храм отмывали и чистили, дабы Дионисий его ко Всенощной мог освятить.
Здесь полагаю повести конец; мы же с Настёнкой поедем в Троицу, а оттуда в Горбатово, как скоро нас князь Пожарский из Москвы отпустит.
Писание же сие в тряпицу заверну и в Троице отдам келарю Аврамию, по нашему с ним уговору, ибо мне оно в Горбатове не надобно, Аврамий же пускай с ним что хочет, то и творит.
Листу конец и аминь.Надписание краткое о воспоследовавших делах, об унятии смуты и об избрании царском, и о том, как судьбами Божиими житие помянутых в сей книге людей устроилось
Даже и до сего дня, хоть и многому времени минувшу, я слезы всегда из глаз испускаю, когда вспомню кончину милого друга моего и отца духовного, добрейшего старца Аврамия, прежде бывшего келаря Троицкого.
Скончался же он на моих руках, здесь в Соловках у моря Студеного. Почуяв же пришествие облака смертного, позвал меня и молвил:
— Данило, друг мой любезный! Настает мой последний час, и скоро воздастся мне от Бога сполна за все мои грехи неудобоцелимые. Перед смертью же хочу тебя благословить и прощения твоего испросить, ежели сотворил когда-то нечто тебе обидное. Бесчаден будучи, желаю передать тебе все имение свое, а мое имение для тела ничтожно, для духа же многополезно: владею единственно сундучишком с книгами душеспасительными и со всякими летописаниями и иными записками людей сведущих и мудрых. Там же найдешь ты и свое писание отроческое, которое ты мне подарил в лето достопамятное, когда мы Москву у поляков отняли. Перечитай его: найдешь в том многую усладу и утеху. Я же пред тобою покаяться хочу, ибо многое из повести твоей я в свое сказание о Троицкой осаде переписал, зане я самолично в той осаде не сиживал, а у тебя всё подробно исписано и прямо. Прощай же, Данило; да пребудет с тобою Божье благословение, да не случится тебе вдругорядь сидеть в такой лютой и страшной осаде, да жить бы тебе сто лет покойно и мирно.
Сказав это, преставился отец Аврамий, и многие слезы пролили мы с Настёнкой о кончине его. Благословение же его меня до старости хранило, но под конец жизни моей многогрешной, увы, не уберегло. Ибо ныне мы, соловецкие люди, вот уже третье лето сидим в осаде от злых и бесстыдных еретиков, богоотступников, гонителей веры Христовой, иже ради мирского быстротечного преуспеяния забыли Господа, и, служа ревностно безбожному и волкоподобному царю Алексею, этом новому Юлиану, и Никону антихристу, злояростно нападают на наш стойкий в вере Соловецкий монастырь, и хотят нас лютостью своей и насильством принудить к отпадению от Христа бога нашего, и чтобы мы, на радость сатане, творили крестное знамение троеперстным кукишем. Мы же за истинную веру и помереть рады, и не покоримся отнюдь, доколе все голодом не изомрем.
А силы мои уже не те, что прежде, ибо стар я весьма и немощен учинился, семидесяти с лишком лет от рождения будучи. Чаю кончину скорую, и того ради решился снова взять хартию в руки и дописать вкратце о том, что содеялось со мной и с иными помянутыми в книге людьми во прохождение истекших лет.
По избавлении Москвы из плена латинского пришел король Сигизмунд с сыном Владиславом из Смоленска под Волок Ламский, и хотел город походя взять, но не преуспел, а только многих людей своих положил. Писал король к воеводе Волоколамскому гневные грамоты, и требовал сдать город; воевода же ему гордо ответствовал: «Не бывать тому, доколе Москва не будет ваша; а возьмете Москву, тогда и мы вам покоримся».
Князь же Пожарский с Козьмою Мининым сведали о приходе Сигизмундовом и весьма устрашились, и не распускали ополчения московского, и готовились к смертному бою. А король Сигизмунд увидел, что Москва сильна ратными людьми, и никто там его, короля, не хочет, ни сына его. И не осмелился король к Москве приступать, и ушел из Русской державы в Польшу с великим срамом.
Князь же Пожарский, нимало не помедлив, отправил в города гонцов с указом о прислании выборных людей в Москву на собрание всей земли об избрании царском. И составился великий собор, и долго в том соборе люди меж собою спорили и толковали, кому держать скипетр великого царства Московского.
Голос келаря троицкого Аврамия на том соборе громче всех прочих звучал, ибо многие к его слову слух преклоняли. И по доброму его совету избран был на царство Михайло Романов, Филаретов сын.