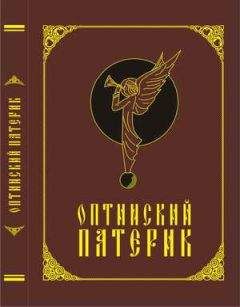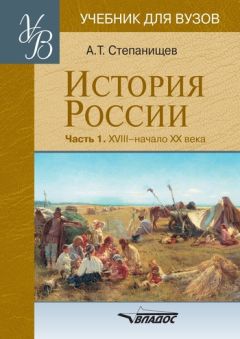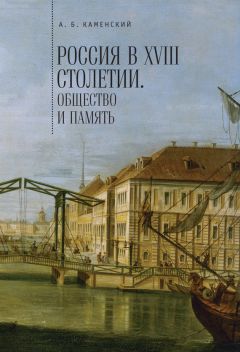Вениамин Колыхалов - Тот самый яр...
— Плюгавенький… среднего росточка… Шибко психованный… Его приклад по моему телу часто разгуливал. Нальётся злобой — зрачки белеют, как у рыбы разваренной… Собирался я его перед побегом придушить — душа отказ сделала…
— Вот так история!
— Э, дорогой гостенёк, всю мою историю в один том не втолкаешь… Душа почему непобедима? Потому что после смерти в отлёт уходит… в свободное плавание…
— В загробный мир веришь?
Осушив гранёный стакан браги, крякнув, богатырь почти рявкнул:
— Веррю!.. Что я видал в сраной предгробной жизни?! Голимый труд… унижения… грабёж… войны… Думаешь — мы с тобой народ? Чернь… скот…
— Сброд… быдло… — подсказал историк.
— …Верняком сказанул, — обрадовался поддержке Киприан. — Вот и тешим душеньку о рае загробном… Может, там не встретишь Пиоттуха, не услышишь его ора: „Я тебе продую мозги на одесский манер…“
— Давно сделал вывод: империи погибают от рабства… оно укорачивает сроки существования людских сообществ… Понятен тебе ход моих мыслей?
— Верняком!.. Рабами жили, барскую породу защищали… Вот мы бражничаем, а на Оби партейные прохиндеи концы в воду прячут…
Что для них благословенный народ Отечества пыль, песок, бурьян, — подливал масла в стариковский огонь штрафбатовец. — Ему удалось вывести крестоносца на стрежь истории, всколыхнуть память.
— Меня, Серёга, вот какая загадка мутит: как, допустим, я, в гроб упакованный, бездыханный — в загробье окажусь?.. Ангелы перенесут? Так у них крылышки слабые, мою тушу в центнер весом им не перенести… Если душа выпорхнет — дело другое… душу и ветерок краю поддует…
2Неотвратимый сердечный приступ свалил разведчика и снайпера Воробьёва на крыльце избы Октябрины. Встревоженный кот учёный, громко мяукая, с минуту ходил торопливо вокруг присевшего на ступеньку больного.
После ухода гостя на улицу хозяйка ждала его возвращения.
Дымок звал на помощь.
Валокордин не влил в сердце энергию защиты.
„Скорая“ прилетела не скоро.
Отнялись ноги. По слабым рукам пробегала частая дрожь.
Санитары с трудом переложили с крыльца на носилки обмякшее тело.
В больницу Октябрина не поехала, решив навестить сердечника утром.
После обезболивающих уколов ветеран обрёл мутное сознание.
— Меня зовут Наган Наганыч… Натан Натаныч Воробьёв… отдельная рота снайперов…
— Лежи, лежи, фронтовичок, потом честь отдашь.
— Сестричка, как я сюда попал?
— С улицы Железного Феликса привезли… На яр ходил, что ли? Сердце не выдержало?..
Смутно прорисовывались Обь, обрыв, кот, череп на штакетине.
— Сердце — моё слабое место… Отговорила роща золотая…
— Пока шумит… пить не бросишь — точно отговорит.
— Сестричка… я немного… Победный день…
— Вот и полёживай, победитель, набирайся сил.
Соображение очищалось.
„Разговаривает со мной деваха как с последним алкашом… так с Васькой Губошлёпом можно болтать… Дурак! Оставил череп на заборе… Ты зачем его в руки брал, пулевую смертельную дырку ощупывал?..“.
К полудню навестила Октябрина, принесла свежий творог, пару яблок, картофельные шаньги.
— Дымок привет передаёт.
У больного вид виноватый, с налётом суровости.
Старушка успокоила:
— С кем, милок, беды не бывает… поправляйся… Утром сосед прибегал, про оставленный череп талдычил. Боялся нас напугать… Говорю: „Запился ты, Васька!“
— Был дымокурный череп… я его за поленницу дров положил.
— Вот леший! Губошлёпина нарымская!
Увидев медсестру, показывающую пальцем на циферблат наручных часов, Октябрина кивнула и заторопилась. Она поняла сигнал „свидание закончено“.
— Что вкусненькое принести?
— Беленькую, — прошептал Наган Наганыч.
„Слава Всевышнему — без инфаркта обошлось… водочки запросил — значит, осилит недуг… Надо Варваре в Томск позвонить, обсказать всё… навязала мне гостенька…“.
Придя домой, Октябрина осмотрела дровяник, за каждую поленницу заглянула — череп исчез.
— Ах ты, губошлёпина!
— Вот и я! — точно из-под земли появился Василий. — Звала, Красный Октябрь?
Я сейчас тебе устрою революцию! Из-за твоего костяного дымокура гость в больницу угодил — сердце не выдержало.
— Разведчик черепов не боится…
— Голову ломаю: как он твоего негритосика ночью увидел… Приходил? Нашёл его?
— Нашёл. Песочком почистил… покаялся перед ним… Красный Октябрь, я ведь дурак не круглый — квадратный… тащит меня по жизни — углами упираюсь… налей стопарь…
— Свалился на мою головушку, лешаина!..
В городской гостинице Полина заждалась штрафбатовца.
— Распутник, где шляешься?
— Старика встретил — золото!
— А я тебе что — чугунина?!
В номере коробки, пакеты, свёртки.
— Откуда дровишки?
— Из склада, вестимо… Набросали подарков… теперь ревизии, проверки стыдно проводить… Вот клялась не брать ничего, но так шельмы торгашеские подъедут на тройках расписных — поневоле возьмёшь… У них не убудет… Мы раболепствуем перед Москвой. Они перед Томском… Лесть по ступенькам шагает… Без блата, Серж, не проживёшь. Ты думаешь: реклама — двигатель торговли? Нет и ещё раз нет! Блат, взятки, подношения — хоть „Волгой“, хоть борзыми щенками, хоть устройством оболтуса в престижный ВУЗ… Не имей ста рублей, а женись, как Аджубей… Политика, друг, как и Восток — дело тонкое… Пили коньяк армянский. Чем тебя золотой старикан потчевал?
— Брагой…
— Фи, гадость какая! До чего докатился, кандидат исторических наук…
Каким-то глубоким, отточенным чутьём Горелов догадался: полячка побывала в чьих-то крепких объятиях. Когда разглядел на шее возле ключицы засос — захотелось наотмашь ударить стерву томского разлива.
Сдержался. Скрежетнул зубами и покинул номер.
Удары судьбы даже на уровне любовных отношений историк привык встречать стоически. На стук в дверь не отвечал: пусть чиновница подумает — ушёл в город.
Раскрыл дневник, долго сидел задумавшись над снежной страницей. Пока не знал — какие семена мыслей лягут на ждущее поле.
Историка давно терзал вопрос: где же разминулись цивилизации на путаном пути эпохального развития. Почему тропы войн уводили их всё дальше от солнечного предназначения. Религии только усугубили положение людских сообществ. Они загоняли гурты двуногих в безвыходные лабиринты страха, толкали их в грехи и сами же замаливали, прощали прегрешения.
Душа — вечный символ свободы — досталась церковникам, как экспериментальная площадка для усложнённых опытов.
Хотелось проникнуть в далёкое прошлое взором генетической памяти. Виделось только Солнце — главнейшее животворное Существо, которое изначально призывало к миру и любви. Не существовало богов, идолов. Не бродил неприкаянно золотой телец. Мир Природы переживал мучительную стадию становления. Свет явился первоосновой радости.
Враждующие дикие племена кочевали в поисках пригодных мест. Солнце не повинно в том, что не могло образумить воинствующие орды. Оно продвигало по земле науку света, подписывало лучами не приговоры — дарило свободу.
„Мы все вылупились из света, — легли в дневник первые слова. — Мы предали Солнце, Землю, Природу, Вселенную — праматерь всего сущего в обозримых галактиках…“
Требовательный стук в дверь.
— Откройте! Это администратор.
Повернув ключ влево, Горелов приоткрыл дверь.
— Извините… Ваша сотрудница беспокоится, не случилось ли что с вами.
Из-за спины администратора сверкнули хитрые глаза.
— Всё в порядке… работаю…
— Ещё раз извините…
В комнату Полина вломилась на правах ревнивой жены.
— Что за фокусы?! Прятаться от друга!
— Друзья не предают… Засос успела запудрить?
— Ты вот из-за какого пустяка убежал… какая-то молодая дурында — видно местная лесбияночка — от души приложилась губами к шее… торгашка — что с неё возьмёшь?
— Уходи… хочу поработать…
— Говорю тебе: не предавала…
— Брысь!
Разоблачённая бестия знала: сейчас надо быть сдержанной, хитрой.
— Серёженька, на меня бабёнки летят, как мухи на мёд… ну что во мне от лесбиянки?! Я полная натуралка — балдею только от мужиков… Давай сегодня в твоём номере… глупенький, ну иди же…
Чувство брезгливости, отвращения не впервые нападало на опытного любовника.
„Самка… такая изощрённая самка… Ни стыда. Ни раскаянья…“.
Она попыталась избитым путём бесцеремонности овладеть своей собственностью. Знала этакий развязный приёмчик, высекающий искру возбуждения… Номер не прошёл. Уходя, пробубнила:
— Знала бы — в коллективе осталась… зубы почисти — брагой воняешь…