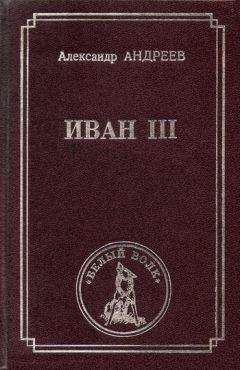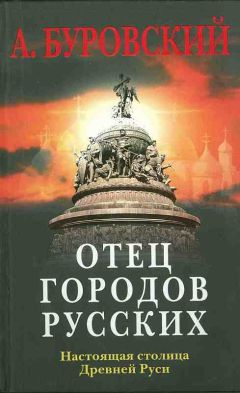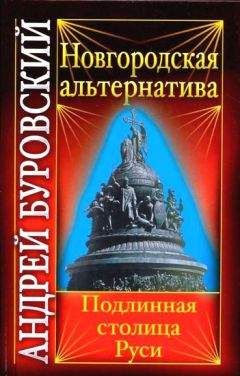Натан Рыбак - Переяславская рада. Том 2
— Грамота лживая. Рука гетмана подделана. У иезуитов на такие козни мастеров немало…
Когда прибыли послы от гетмана Хмельницкого, князь Прозоровский отдал эту лживую грамоту Богдановичу-Зарудному.
— Отдашь, пан посол, гетману, пускай посмеется…
…Мартын Терновой зорко приглядывался к московскому житью. Хотелось все запомнить, ничего не упустить. Когда еще доля подарит таким случаем…
Был он не однажды с есаулом Хорьковым да писарем Гулькой и в Китай-городе и в Белом городе, побывал на Арбате. Ходили за Неглинную в гости к знакомым сотникам стрелецким. В торговых рядах среди купцов завелись добрые приятели. А как-то поехали с писарем да стрелецким сотником Петром Шориным и в Немецкую слободу.
Шорин качал неодобрительно головой, указывая перстом на множество иноземного торгового люда, бродившего по узкой улице слободы, сказал:
— Липнут к сладкой земле русской, как мухи… От них только зла жди — сидят за спиной да высматривают, как бы нож воткнуть прп удобном случае…
К вечеру затихала Москва. Мартын долго стоял на крыльце, прислушивался, как стихает людской гомон, словцо море приникало к берегам взбаламученными за день волнами.
Накрепко запирали ворота кремлевские, Китай-города, Белого и Земляного городов. Главные проезжие улицы заваливали деревянными колодами.
Гасли огни в окнах. Наступала весенняя звездная ночь. Молодой месяц рождался в небе. Кривою саблей рассекал синюю тучу. В зеленоватом сиянии вспыхивала звезда. Вправо от нее, дышлом к востоку, лежал семизвездный Чумацкий Воз[14]. Мартыну он напоминал Дикое Поле, весну сорок восьмого года, дни, казавшиеся уже давними…
Тишина раскидывала свой незримый полог над Москвой. И Мартын прислушивался к этой глубокой тишине.
Замолкли торговые ряды на Красной площади, не стучат молоты в Кузнечной слободе, притихли гончары, спят хамовники. Только порой через заборы долстает собачий лай из боярских усадеб да однообразный перестук колотушек сторожей на Арбате. А порою, когда все затихает, слышно Мартыну, как плещет вода на мельницах по Яузе и Неглинке.
Мартын, опершись локтями на перила крыльца, смотрит в высокое звездное небо над Москвой, и в сердце ему входит светлое и мечтательное спокойствие. Куранты на Фроловской башне отсчитали полночь, начала свою ночную перекличку стрелецкая стража в Кремле.
Первым начинает стрелец, стоящий возле Успенского собора, ему откликается сторож у Фроловской башни, а за ним вслед басит голос от Никольских ворот, и так от башни к башне, от ворот к воротам, по всему Кремлю, по Китаю и Белому городам летит, как призыв, перекличка дюжих голосов сторожей:
— Славен город Киев!
— Славен город Суздаль!
— Славен город Смоленск!
— Славен город Москва!
…И от этих возгласов сердце Мартына Тернового наполняется невыразимой радостью, восторгом, ощущением непреклонной мощи и силы. Он выпрямляется во весь рост на крыльце и, вдохнув полной грудью пьянящий весенний воздух, говорит громко:
— Славен город Москва!
И хочется ему, чтобы такая сила была в груди — выкликнуть это так, чтобы услышали в Чигирине и в Киеве, в Корсуне и в Полтаве, в Диком Поле и в его маленьком Байгороде…
Быстро минула вешняя ночь. Терновой хотя и не выспался, а чуть свет был уже на ногах. Разведав у писаря, что послам потребен не будет, отправился опять на Кремлевский двор.
Вот она, Москва, перед Мартыном как на ладони! Стоит он рядом с караульным стрельцом у амбразуры в кремлевской западной стене. Бродил Мартын под стеной, стрелец по одеже догадался, что он казак запорожский, позвал к себе. Отсюда видны многие улицы и майданы, на солнце играют купола церквей, золотятся, сверкают кресты. Стрелец сказал, что их триста шестьдесят пять.
— Если бы всех православных собрать, всем было бы где помолиться… — сказал стрелец.
Мартын подумал: мог ли бы он так свободно и беспрепятственно подняться на стену краковского Вавеля или бахчисарайского ханского дворца? Сказал о том стрельцу. Тот рассмеялся. Дружелюбно хлопнул Мартына по плечу.
— Братья мы с тобой. Тебя как величать?
— Мартын.
— Меня — Василий Гузов.
— В моем Байгороде Василей человек восемь.
— А у меня в роду брат двоюродный Мартын. Что ж, теперь одного царя подданные, — проговорил стрелец. — Пойдем скоро на короля польского — земли родные вызволять. Война жестокая будет. Не захотят паны добром отдать…
— Жестокая, — подтвердил Мартын. — Я панский норов хорошо знаю…
— А я, думаешь, нет?
— Воевал поляков?
Стрелец уклончиво ответил:
— Разных панов привелось потрепать.
— О, вижу, ты вправду свой, — рассмеялся Мартын.
— Сказал тебе — брат.
— И верно, навеки в Переяславе побратались.
— Паны наши, может, и перессорятся еще, — тихо сказал стрелец, — а мы — нет!
— В том и сила наша! — пылко воскликнул Мартын.
Стрелец Василий Гузов вечером у себя в доме, на Арбате, рассказывал Мартыну:
— Москва, брат, велика, людей в ней всякого чина и звания премного, бояре не все одинаковы. Кто поумнее из них, почестнее, тот за все царство душой болеет, старается бродяг чужеземных из наших земель выгнать, не дать наше царство на разорение, а иные со всеми чужаками хотят жить в согласии, лишь бы их мошны никто не касался… Торговые люди — те мнутся. Вот когда начали им купцы аглицкие, немецкие, свейские на мозоли наступать, тогда завопили. Черносошники стопут — поборы царю, боярам, на войско… У нас, стрельцов, служба тоже но сахар… Артамон Матвеев, как стал начальником, руку тяжело наложил. Вот и получай… Вертись, оглядывайся, время трудное… А все-таки на своей земле живем, никто не лишит ни воры нашей, ни языка, не то что у вас поляки да татары натворили.
— Эх, брат, такого натерпелись! — вскочил на ноги Мартын, заговорил горячо.
Жена Василия Гузова как стояла у печки, так и замерла, окаменела. Ясно представились ей вытоптанные степи, битые шляхи, испепеленные сады, пожарища вместо селений, услыхала она плач жен и детей, дикие крики татар, свист жолнерских плотей, увидала колья с погибающими на них в адских муках посполитыми, увидала божьи храмы, в которых кони шляхетские стучат подковами; все это стояло перед глазами, и по щекам Марии Гузовой ползли слезы. Ловила их соленую влагу губами, перехватило в горле, дыхания не перевести. Сердце полнилось болью за далеких, но родных людей, сестер и братьев.
— Вот, брат, — устало сказал Мартын, садясь на лавку, — что за звери паны-шляхтичи, иезуиты, татары и турки!
— Хорошо, что с Москвой объединились, — сказал Василий Гузов.
— Того весь край хотел, вся чернь, все казаки, потому и пошли за гетманом Богданом…
— А имя какое хорошее у гетмана вашего, — вставила слово Мария. — И вправду он вам богом данный…
— Говорят, бог дал, бог и возьмет, — заметил Гузов.
— А не станет его, — невесело отозвался Мартын, — худо придется краю. Старшина, полковники, есаулы, кошевой перегрызутся за булаву. Он всех в кулаке держит. Знает, чего хочет поспольство, прислушивается. Сам из панов, а знает — без нас ничего не достигнет…
— Любят его казаки? — спросил стрелец.
— Любят и уважают, — ответил Мартын.
…Василий Гузов показывал Москву Мартыну, Где только не ходили в свободное время! Павло Тетеря как-то рассердился:
— Слоняешься, сотник, бог знает где… не дозовешься.
Мартын промолчал, сдержался. Словечко, повисшее на кончике языка, опомнясь, вовремя проглотил.
Из Чигирина прискакал гонец от гетмана — есаул Демьян Лисовец. Привез грамоты. Одну — послам, другую — в собственные руки боярина Василия Васильевича Бутурлина, Извещалось в них, что жолнеры Потоцкого выступили из зимних квартир, идут на Винницу — Брацлав. В Бахчисарае зашевелились. Ширинская орда вышла из зимних улусов и совершила набег на сторожевые курени и порубежные села. Отряды низовиков и запорожский курень во главе с кошевым Леонтием Лыськом дали татарам бой. Перебито басурманов немало, взято в полон несколько сот, и самого ширинского князька взяли, коего привезли в Чигирин, а коли понадобится, то и в Москву гетман может его прислать. Польский посол Яскульский из Стамбула выехал в Бахчисарай. При ханском дворе между беями и мурзами раздор.
В третьей грамоте, на имя царя, гетман извещал, что полки готовы идти в бой.
Ближний боярин Василий Васильевич Бутурлин засуетился. Про чернь забыл. Ежедневно просиживал по нескольку часов в Посольском приказе у Ордын-Нащокина вместе с послами Богдановичем-Зарудным и Тетерей.
В шведском посольстве подозрительная суета. Ордын-Нащокин об этом знал. Выслушал донесение. Кивнул головой. Все шло как полагается. Напрасно они надеялись, что монаршее подтверждение переяславских статей задержится.