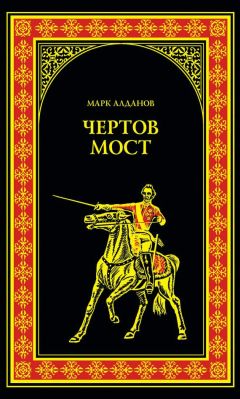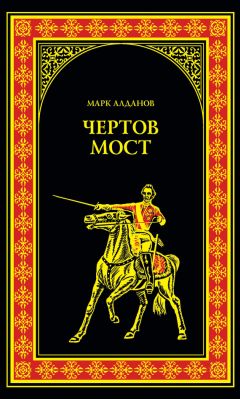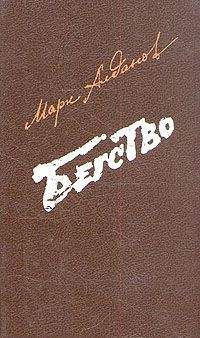Станислав Федотов - Возвращение Амура
– Очень просто: упредить. Ты же знаешь, как на войне: противник готовится к сражению, а ты наносишь удар первым, и все его планы летят в тартарары. Мне государь велел писать лично ему и только правду – вот и отпишу все, как было, и почему я считаю, что поступил так, блюдя интересы царя и Отечества. Тотчас и отпишу. А ты иди, Иван, отдыхай. Тебя уж, верно, заждались.
В голосе генерала явственно прозвучала добрая усмешка. Вагранов смущенно поклонился и вышел, плотно притворив за собой дверь.
Муравьев уселся за стол, придвинул было бювар, но взгляд его упал на злополучные листки письма. С брезгливостью он взял их и углубился в чтение. Читал бегло, хмыкая и крутя головой. Дойдя до конца, отложил, вынул из бювара чистый лист бумаги и взялся за вставочку со стальным пером.
– Вот, государь, и первое мое послание. Писать правду, только правду, ничего, кроме правды!
Глава 2
В фойе Дворянского собрания было не протолкнуться, и причин тому было две.
Во-первых, само открытие дома Собрания. Заложили его еще при прежнем генерал-губернаторе, да так на фундаменте и остановились – стало не до того: сначала ревизия сенатора Толстого, потом отставка главного начальника края, затем томительное ожидание новостей… Не было денег, разбрелись строители, никто не интересовался, то да се… И вдруг все завертелось. Пришло известие о назначении нового генерал-губернатора, известный на всю Сибирь благотворитель, купец 1‑й гильдии и статский советник, потомственный почетный гражданин Ефим Андреевич Кузнецов дал денег, собралась артель строителей и за четыре месяца выстроила вполне достойное губернской столицы здание – и общий зал на двести мест с фойе и буфетом, и бильярдная, и кабинеты для различных нужд, вроде заседаний потребных комиссий или просто – игры в карты. Правда, пол деревянный остался некрашеный – по причине зимы: зимой краска плохо сохнет, – зато в фойе повесили портрет государя-императора Николая Первого, написанный настоящим европейским художником Карлом Мазером, который уже несколько лет как приехал по наказу родственников декабристов – писать их портреты, а кто с семьями, то и всех домочадцев.
Во-вторых, в город давно не заезжали артисты, и на концерт французской виолончелистки постарались прийти все, кто смог купить билеты, хотя бы входные – благо ни для кого не было запрета, лишь бы в руках имелся билет, а на плечах – приличная одежда. И сейчас чиновники и офицеры – армейские, жандармские, казачьи и полицейские, купцы и золотопромышленники, церковнослужители и учителя, ремесленники и гимназисты старших классов кучковались по принадлежности к сословию или коллегам, обменивались новостями, покупали билеты благотворительного базара, с любопытством поглядывали на небольшую группу декабристов, пришедших с женами и старшими детьми. Тесным кружком стояли Волконские и Трубецкие с детьми, Поджио и Муханов. В центре этой группы витийствовал Маркевич, бывший бродячий актер и владелец балагана на Большой улице. Энергично жестикулируя, он рассказывал о своей давней мечте – открыть в Иркутске постоянный театр, в котором можно было бы ставить пьесы Шекспира, Гоголя, Грибоедова…
– Знаете что, господин Маркевич, – раздумчиво сказал Волконский, – я бы на вашем месте обратился с ходатайством к генерал-губернатору. Только, разумеется, не сейчас – вы же понимаете, сейчас ему не до театра, во многих делах запустение царит, – а где-нибудь через год-полтора ходатайство может и удовлетвориться. Вы же все равно за это время денег не найдете.
Маркевич выслушал, грустно покивал и, откланявшись, направился в буфет. Поджио проводил его веселым взглядом хитроватых желто-карих глаз и погладил свою черную, несмотря на приближающееся пятидесятилетие, без единого седого волоска, бороду:
– А вы на него, Сергей Григорьич, целый ушат воды вылили…
– Поверьте, Александр Викторович, мне искренне жаль остужать его мечты, но Муравьеву действительно сейчас не до театра. Он сказал, что, как только сойдет снег, отправится обследовать Забайкалье. И вообще, намерен весь край увидеть собственными глазами, даже Камчатку.
– Ну-ну, – язвительно усмехнулся Трубецкой, – известно, какой путь устлан благими намерениями.
– Напрасно вы так, Сергей Петрович, – мягко сказал Муханов. – Понятно, русскому человеку непривычно видеть на столь высоком посту приличного чиновника, но надо радоваться тому, что подобное случилось. Мы с Поджио и другими нашими товарищами, живя вдали от Иркутска, уже испытали на себе результат его благих намерений: нам теперь не надо испрашивать у жандармов разрешения на любое передвижение.
– Так-то оно так, это и меня коснулось, – вздохнул Трубецкой. – Только вам, Петр Александрович, как историку и литератору лучше иных известно, сколь быстро заканчиваются на Руси подобные радости.
– Жизнь, вообще, быстротечна, – философски заметил Поджио. – Тем более надо ценить и недолгие радости – в этом я совершенно согласен с Петром Александровичем. И у меня от беседы с генерал-губернатором после домашнего концерта, того, что был у вас, Сергей Григорьевич, осталось впечатление незаурядности, а главное – искренности, этого человека. Проскальзывают, правда, нотки непогрешимости и даже самодурства, но кто из наших начальников в этом не грешен? Вон и Пестель Павел Иванович, мир его праху, – Поджио мелко перекрестился, – был не ангел во плоти.
– Да уж, – желчно усмехнулся Трубецкой, – мягко сказано. Но не будем загадывать про нашего генерала. Как говорится, поживем – увидим.
Мишель и Леночка Волконские и старшая дочь Трубецких Александра, ровесница Миши, не прислушивались к разговорам взрослых, а вернее, попросту ничего не слышали. Они, можно сказать, впервые вышли «в свет» и потому откровенно глазели на фланирующую по фойе публику, которая, естественно, и сама не обделяла вниманием «государственных преступников» и их семьи. Все в Иркутске знали, что дома декабристов открыты для доброжелателей, многие под тем или иным предлогом заглядывали к ним «на огонек» и с удовольствием обсуждали животрепещущие вопросы, но то были частные и весьма нерегулярные встречи. Визит генерал-губернатора к Волконским и последовавший затем домашний концерт французской виолончелистки, собравший полный зал гостей, вызвал нешуточный ажиотаж в местном обществе, что в немалой степени должно было поспособствовать успеху публичного концерта. Особую интригу культурному событию придавал тот факт, что и в домашнем концерте, и в предстоящем публичном роль концертмейстера исполняла Мария Николаевна Волконская. В домашнем она выступила и с сольными фортепьянными номерами и показала весьма недурное умение музицировать.
Сейчас они с Екатериной Ивановной Трубецкой отстранились от мужского кружка, не вмешиваясь в их разговор, и переговаривались вполголоса, исподволь разглядывая собравшееся общество.
– Представляю, как сейчас волнуется эта девочка, – сказала Мария Николаевна. – Пора начинать, а Муравьевых еще нет.
– А вы сами, Мари, не волнуетесь? – улыбнулась Екатерина Ивановна, и ее австрийское некогда изящно-узкое, а с возрастом расплывшееся лицо осветилось этой открытой улыбкой.
– Нисколько, – отмахнулась Мария Николаевна. – Вы могли заметить, что я уже далеко не та боящаяся каждого куста ворона, которую вы встретили здесь двадцать лет назад.
Трубецкая кивнула, подтверждая, и озабоченно оглянулась вокруг:
– Лиза и Зина говорили мне, что будут на концерте, но я что-то их не вижу.
Средние Трубецкие – Елизавета и Зинаида – по высочайшему разрешению уже три года воспитывались в Девичьем институте, открывшемся в Иркутске стараниями бывшего генерал-губернатора Руперта, и домой наведывались только на праздники.
– Да вон же они, – показала Мария Николаевна в дальний угол, где под присмотром строгой надзирательницы смеялись и перешептывались разновозрастные девочки – небольшая группа, в которой выделялась высоким ростом – в отца пошла – четырнадцатилетняя хорошенькая Лиза.
– И верно, – обрадовалась Трубецкая. – А мне – не по глазам, как говорит моя горничная… – Она вдруг замолчала на полуслове, и серые глаза ее удивленно округлились.
Мария Николаевна проследила ее взгляд и увидела темнокудрого молодого красавца во фраке, из-под которого выглядывал серый жилет; небрежно повязанный красный бант галстука с белой рубашкой под ним и серые панталоны завершали цветовую гармонию костюма. Незнакомец стоял возле одной из колонн, поддерживающих антресоль для оркестра, и Волконской показалось, что он скрывается в ее тени, что при небольшом количестве свечей в единственной люстре, свисавшей с потолка, было не столь уж трудно. Он словно стеснялся своего явно европейского лоска и боялся привлечь излишнее внимание, которое конечно же было бы ему уделено, если бы собравшиеся в фойе люди, точнее, подавляющее большинство из них, не были напряжены ожиданием появления генерал-губернатора, который, как сообщил кто-то, только что прибыл и изволит раздеваться в кабинете для важных гостей.