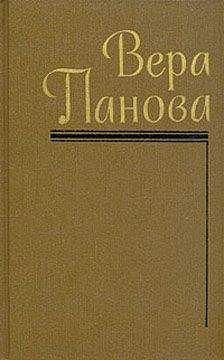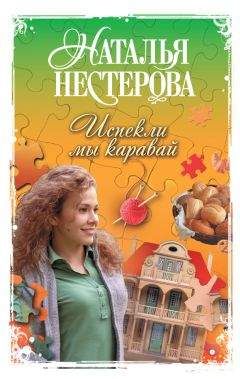Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
Однако танцевальной гипотезе Арбузова доверяли не все, и в пансионе ходила другая версия об ожидавших нас утехах, более материалистическая, и более отвечавшая вкусам большинства.
Титов седьмого класса, первый бас гимназии, имевший плечи шире, чем у самого Богатырёва, и потому считавшийся у нас за непоколебимый авторитет, рассказывал, что давно-давно, когда он был ещё в первом классе, тоже будто бы появился такой же чудак-попечитель, какой-то светлейший князь, и к нему водили гимназистов. Кормили будто бы их на убой конфетами и сладкими пирожками, так что после целую неделю тошнило, а больше будто бы ничего не было. Этому верилось гораздо охотнее, чем нисколько не соблазнявшей нас перспективе мазурки и галопа в белых перчатках с незнакомыми «аристократическими» барышнями, говорящими по-французски.
Нас, избранных, набралось в пансионе двадцать один человек, по три из класса. Но это избрание наше, долженствовавшее свидетельствовать о необыкновенном отличии нашем перед простыми смертными в глазах всего нашего начальства, к удивлению моему, произвело на товарищей наших совсем не то впечатление, какого я ожидал. Мы стали вдруг почему-то какими-то козлами отпущения целого пансиона. Он нас как-то сторонились. Над нами потешались теперь, будто над зверьками особой породы, врали про нас самый обидный и несуразный вздор. Всякий подходил к нам посмотреть, подразнить, расхохотаться в глаза. Как будто мы были виноваты перед товарищами в чём-нибудь очень позорном. Вина наша была в том именно, что начальство признало в нас некоторое присутствие качеств, пользовавшихся искреннейшим презрением пансионской гайдаматчины, дававшей всему тон. Мы оказались сравнительно чистенькими, сравнительно приличными, стало быть, кислятиной, дрянью, бабьём, панычами-модниками.
Сам наш Анатолий, к сугубому огорчению нашему, стоял во главе наших преследователей. Ему были искренно ненавистны малейшие проблески светскости и модничанья, малейшая неверность священному для него культу молодечества и дикости.
— Что, подмазался к директору? Подковал язычок! Сволочь… — ругался он. — Что ж, вам фраки наденут, перчатки палевые? Тоже, подумаешь, франты парижские появились… Выскочки паршивые!
— Эй ты, франт, сапоги в рант, жилет пике, а нос в табаке! — подхватывал с хохотом ротастый пучеглазый Савченко, дёргая нас сзади за куртку.
— Франт петушиное перо! — кричали ему в поддержку второклассники.
— Они, господа, к князю в гости едут, вы до них пальцем не смеете дотронуться, — с комическою строгостью останавливал их Евдокимов.
— К сиятельству собрались, сами сияют… Ишь довольны! Нашпионьте там на нас, — раздавались кругом ядовитые голоса.
— Это наша гимназическая аристократия, господа! Они считают за низость говорить с нами, плебеями… Словечком не удостоивают, — продолжал поджигать Евдокимов.
— Прочь! Сторонись с дороги! Княжеские лизоблюды едут! — актёрничал Савченко, отчаянно махая руками и расталкивая будто бы перед нами окружившую нас толпу.
Мне было глубоко обидно в душе от такой вопиющей несправедливости. Я попал совершенно нечаянно и совершенно против своего желания в эту позорную когорту избранников. Я не только не мечтал о танцах с барышнями, как Арбузов, но даже готов был вышвырнуть в окно всякие конфекты и сласти, которыми нас манили. Я никогда не подозревал, чтобы во мне, страстном кулачнике и восторженном почитателе гимназического богатырства, могли отыскать хотя какие-нибудь признаки «благовоспитанного ребёнка» с точки зрения французских гувернанток. Но как я посмел бы ослушаться повеления этого страшного лысого черепа, повергавшего в трепет всю гимназию? Я с горечью глотал внутри своего сердца наносимую нам со всех сторон незаслуженную обиду, и старался только презрительно улыбаться.
Но Алёша, с своим занозливым языком, не хотел поддаваться, и один храбро огрызался за всех.
— Чего беситесь? — спрашивал он с наигранным хладнокровием. — Знать, уж больно всем вам завидно, что князь нас к себе пригласил? Что подачки вам с барского стола не будет? Успокойтесь, успокойтесь, вас тоже на кухню позовут… Соломатой гречишной накормят… Знаете песенку: сидела поповна под лестницею, кормили поповну яичницею… Ну вот так и вас!
***Мы напялили очень рано свои новенькие мундирчики, вычистились, выскреблись, и ждали сигнала к отбытию, боясь дотронуться до самих себя, все ярко сияющие, точно вычищенные к Светлому празднику запачканные медные подсвечники, ставшие вдруг настоящими золотыми. В надзиратели с нами командировали Троянского, как самого бывалого и развязного на язык. У него не было нового вицмундира, и мы заранее конфузились его потёртых синих швов. Но он бойко шёл во главе нашей колонны, нисколько не думая о неприличии своего костюма, и самоуверенным тоном делал нам предостережения, как мы должны вести себя у князя.
Целых полчаса маршировали мы по убитому снегу улиц, пока не остановились у подъезда темного двухэтажного дома с освещёнными огромными окнами, сплошь завешанными белым. Троянский перевёл дух и велел нам обдёрнуться.
— Смотрите же, не топочите ногами, как овцы… Входите не толкаясь, один за одним… Да волосы пригладьте в прихожей.
Он робко дёрнул звонок. В круглое оконце подъезда глянул кто-то, и дверь широко растворилась. Величественный швейцар с красною перевязью, в какой-то непостижимо великолепной ливрее, важный, как английский лорд, с некоторой презрительной снисходительностью и слегка ироническим любопытством пропустил нас, маленьких и сконфуженных, мимо своей громадной фигуры, с высоты которой он небрежно рассматривал нас.
— У себя их сиятельство? — неестественным заискивающим голосом, показавшимся мне донельзя противным, осведомился у него Троянский.
— Пожалуйте, пожалуйте! — покровительственно произнёс швейцар, которого лоснящиеся бакенбарды и жирный подбородок торжественно покоились на подпиравших их туго накрахмаленных воротничках.
Ясно было, что распоряжения были даны, и что он знал, кто и зачем пришёл.
В прихожей мы совсем растерялись. Это было что-то такое, чего мы никогда не видал у самых богатых соседей помещиков. Свет заливал всё, везде ковры, зеркала, всюду двери… Не знаешь, откуда пришёл, куда идти. Лакеи в башмаках и чулках, в ярких фраках с пуговицами, настоящие придворные кавалеры Людовика XIV, как их рисовали на картинках… Опять звонок, лакей что-то кричит наверх, и мы двигаемся тесною испуганною гурьбою, машинально прижимаясь поближе друг к дружке, по ярким коврам лестницы, мимо удивительных цветов, канделябров, зеркал, подавленные всем тем, что видели кругом. Наши казённые сапоги нам самим кажутся тяжёлыми, непристойными копытами в этом мире тишины и изящества.
Там, наверху, истинные чудеса! Глаза широко раскрыты на всё, раскрыт по сочувствию и рот, онемевший от изумления. Комнаты, высокие, как церковь, драгоценные люстры, картины в удивительных золотых рамах, цветы, статуи, никогда не виданная мебель, среди которой не знаешь, куда двинуться. Везде столики, диванчики, табуреточки, и на всяком столике бог знает какие редкости, глаза разбегаются… Вот если бы мне подарили этого серебряного коня с распущенною гривою и золотым всадником на хребте, что так красиво взвился на дыбы на тяжёлой мраморной дощечке… А Алёше бы вон тот прелестный ларчик из разноцветной мозаики с чёрными точёными ножками… Вот бы где краски наши прятать и письма маменькины, думается мне. Я вообще чувствую себя перенесённым в какую-то сказочную обстановку и жду всяких необычайностей, всяких невозможностей… Фантазия моя грезит наяву. Я бы совсем не удивился, если бы раздвинулась стена комнаты, где мы стояли, и за нею показались бы бесконечные колоннады с фонтанами и пальмами, как во дворце багдадского халифа из «Тысячи и одной ночи». Тут так естественно ожидать, что сквозь потолок спуститься на тебя мешок с золотом или корзина, переполненная небывалых плодов…
Чуть не целый час прождали мы одни в комнате. Троянский, знавший светские обычаи так же мало, как и мы сами, очевидно, привёл нас слишком рано. Лакеи приходили и при нас зажигали оставшиеся незажжёнными лампы и свечи. Я был в полном плену у своих фантастических мечтаний и нисколько не волновался долгим ожиданием. Но Алёша уже понимал требования приличия, и его слишком чувствительное самолюбие было совсем возмущено.
— Что же это вы нас на смех притащили сюда, Карл Карлович, чуть не за день вперёд? Ведь на нас лакеи смеются… Вот и стой теперь болваном два часа битых, неизвестно зачем, по милости вашей! — шипел он, весь разгорячённый, на сконфуженного Троянского.
Заглянула было к нам какая-то дама, сухая и строгая, остановилась в удивлении и сейчас же отплыла назад. Наконец послышались ровные и твёрдые шаги по коврам соседней комнаты, и к нам вышел сам князь, сиявший радушной улыбкой.