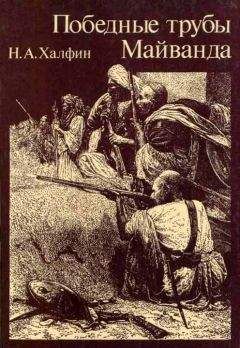Милий Езерский - Конец республики
— Поздравляю тебя с победою.
— Господин мой, — с удивлением ответил атлет, — все мы должны поздравить тебя…
— Нет, — покачал головою Антоний. — Слышишь, как я задыхаюсь? Это Пиррова победа. Победителем я считаю тебя.
Он обнял его и пригласил прийти во дворец за наградой.
Пройдя в помещение, где любители кулачной борьбы, нагие и веселые, прыгали вокруг кожаного меха, наполненного песком, и наносили ему по очереди удары, Антоний присоединился к ним. Дважды учитель остановил его, указав на неправильность удара, и Антонин со вниманием выслушал его замечание.
— Твое учение достойно похвалы, — сказал он. — Но объясни мне, почему удар, которым я недавно сбил, с ног человека, достоин порицания?
— Оттого, господин мой, что ударил ты хотя и сильно, но не в цель. Если бы ты ударил сюда, сюда или сюда (он указал кадык, висок и темя), ты,, несомненно, уложил бы негодяя на месте. А так как ты ударил в челюсть, то негодяй, потеряв несколько зубов, мог, придя в себя, уйти без посторонней помощи.
— Так оно и было, — сознался Антоний, вспомнив Пиндара, и прошел в баланеион, паровую баню, затем опять в тепидарий.
Помывшись и умастившись, он направился в раздевальню, где уже дожидался его Эрос.
— Теперь, — сказал Антоний, — можно отправиться и во дворец, хотя у меня было искушение посидеть среди зрителей и посмотреть на состязания бегунов.
— Не оставайся здесь, господин мой, — попросил Эрос, — без тебя жизнь замерла во дворце. Царица расстроена, дети твои и придворные в большом унынии.
— Как здоровье Атуи?
— Здорова.
— Жены?
— Тоже.
— Письма от кого? Не посмотрел?
— Не посмел, господин мой! Вот они.
И он протянул Антонию навощенные дощечки, которые были скреплены тесемками и припечатаны воском.
Это были письма из Италии: одно от Лелида, другое — от Октавии. Сообщая о мятеже в Паннонии и приготовлениях Октавиана к войне с далматами и иллирийцами, Лепид указывал на возможность успеха в случае внезапного нападения на Рим.
«Ты отказался от союза с Секстом Помпеем, когда сама Фортуна посылала тебе счастье, а теперь представляется второй случай: легионы будут оттянуты далеко от Рима, Октавиан и Агриппа отправятся с ними, а если даже один из них и останется в Риме — прикажи выступить восточным царям…»
Поморщившись, Антоний отбросил от себя дощечки:
«Зачем мне власть? Надоела. Клеопатру люблю и ненавижу, а Октавию люблю, жалею и уважаю. И все же не покину Египта, останусь у ног царицы я, супруг ее и царь».
Вскрыл письмо от Октавии и, читая его, плакал. Она, отвергнутая и оскорбленная, даже на намекала на полученную обиду, а сообщала о детях: его дочери болели, теперь здоровы, а ее дочери и сын увлекаются гимнастикой, плаванием и верховой ездой. Он почувствовал сердцем грусть за ее словами, грусть бедной, одинокой женщины, прекрасной телом и душой, и проклял себя за измену…
— И ради кого, кого? — вскричал он, сдерживая рыдания, а они вырывались из его груди с неудержимой силою, и он уже не мог сдержать их. — Ради кого, кого? — повторял он. — Ради блудницы, продажного тела для стока нечистот всего мира…
Им овладело желание бросить Египет, Клеопатру, сесть на судно и вернуться с друзьями в Рим. Он откажется от власти, возвратится к частной жизни и будет жить в своем имении с любящей женой и детьми, жить на лоне природы, писать свои «Достопамятности».
Выходя из гимназия, он сказал Эросу:
— Готовься. Завтра вечером выезжаем в Рим. Но никому — ни слова.
— Ты это твердо решил, господин? — с сомнением спросил Эрос.
— Не веришь?
— Хочу верить.
— А все-таки не веришь?
Эрос молчал. Антоний вздохнул, но не настаивал на ответе.
Власть тела была сильнее политической власти, и Антоний вскоре убедился в этом. Его возвращение во дворец было встречено с радостью юношами, мужами, девушками, женщинами, рабами и невольницами.
Казалось, огромное событие всколыхнуло дворец, и обитатели его не находили слов, чтобы выразить свою радость. Одна Клеопатра была невозмутима: тусклое лицо, безжизненные глаза. Антоний испугался, увидев ее такою; он успел заметить незажившую губу, и ему стало стыдно; раскаяние овладело им: он ударил ее, любимую, царицу и супругу, мать его детей, защищая Атую…
О, зачем боги вложили в его тело сердце, жадное к женскому телу?
Молча смотрел на Клеопатру, — не видел ни Ирас, ни Хармион. Вчетвером они находились в той же спальне, в которой он ее ударил. Он не мог говорить. Страшная тоска сжимала сердце. Он повернулся и направился к двери. И вдруг мягкий грудной голос — ее голос — тронул его сердце:
— Останься.
Он повернулся. Волнение охватило его с небывалой силой. Лицо Клеопатры сияло. Он опустился на колени у ее ног и в исступлении целовал их, вдыхая запах кинамона, мирра и нарда.
— Сядь.
Она привлекла его к.себе и, улыбнувшись (выступили на щеках ямочки), заглянула в глаза:
— Зачем ты это сделал? Он понял и ответил:
— Я хотел спасти человека… А ты задумала отомстить мне…
— Нет, ты ошибся. Я знала, что ты придешь, и хотела испытать тебя… Ты любишь ее?
— Зачем спрашиваешь о том, чего я сам не знаю? Я не мог жить без тебя… Я хотел покинуть навсегда землю Кем и забыть о ней и о тебе…
— Почему же ты не уехал? Собирайся в путь… В Риме ждет тебя Октавия, дети… А наши дети пусть останутся сиротами… Отец хотел бросить их…
— Нет, я хотел взять их с собою…
— И ты думаешь, что я отдала бы тебе детей? Антоний встал.
— Зачем ты говоришь все это? Если желаешь, я уеду. Мне тяжело жить, чувствуя твою неприязнь. Я иногда сомневаюсь, что ты меня любила…
— Замолчи и уйди. Побеседуем позже.
Антоний вышел с тяжестью на сердце, зная, чем кончится ночное объяснение с царицей, — она победит, а он подчинится.
V
Несколько месяцев находилась уже Лициния в Риме и не могла приняться за дело, которое считала целью своей жизни: ее пугали не трудности, а неумение связаться с лицами, враждебными Октавиану. Что такие люди были и, притаившись, выжидали удобного момента для выступления, она не сомневалась, но не знала, где их искать. Прежних друзей и популяров она не нашла в Риме: думала, что они умерли или выехали в провинции, и отчаяние овладевало ею. Несколько раз отправлялась она с кинжалом под одеждой на улицу «К бычьим головам», находившуюся вблизи Палатина, и подстерегала Октавиана; видела, как он выходил из домика, расположенного в саду, и его окружали верные телохранители-каллагурритяне и шли с ним с обнаженным оружием до его дома, находившегося близ форума, над Лестницей золотых дел мастеров.
При такой обстановке попытка покушения была бы безумием, и Лициния стала следить за Октавианом. Она узнала от рабов, что в домике на улице «К бычьим головам» Октавиан бывает часто — здесь жил некий мальчик Сермент. Убить можно было в саду или в доме, но как проникнуть в сад, охраняемый каллагурритянами и цепными собаками? Как пробраться в дом, крепко запираемый рабами? Она пробовала наняться в этот дом в качестве поварихи и уверяла атриенсиса, что умеет стряпать римские и любые восточные блюда; атриенсис отказал и, посмеявшись, похлопал ее по плечу: «Стряпай себе на здоровье, а нам не нужно».
Возвратившись домой на улицу сукновалов, она села на пороге и задумалась. Вечерело. Люди возвращались с работы — они молча проходили мимо нее; преимущественно это была молодежь — сыновья сукновалов, горшечников, кузнецов, угольщиков; одни из них мостили дороги, другие строили дома, третьи рыли землю и укладывали трубы для водопровода. Работа была тяжелая, оплачивалась скудно, несмотря на уверения Агриппы, что плебеи останутся довольны… Лициния знала об этом. Несколько раз она беседовала с молодыми квиритами о необходимости добиваться лучшей жизни. «Нужно бороться, — говорила она. — Октавиан вас поработил. На вас жаль смотреть, и я спрашиваю себя: «Это ли римская молодежь? Где ее смелость и самоотверженность? Неужели вы забыли о борьбе Гракхов, Сатурнина, Клодия, Сальвия и Секста Помпея? Они погибли, растерзанные и убитые злодеями. А вы притихли и верите Агриппе, другу Цезаря!» Она видела, как у плебеев сжимались кулаки, в глазах вспыхивала злоба; а вождей не было, и она одна, без поддержки, без верных людей, не знала, как и через кого закупить оружие, как образовать коллегии, поднять их на борьбу.
Если убить Октавиана, в столице начнется анархия, и тогда легче будет возбудить народ против тиранов, перебить продажный сенат, выступить во имя охлократии, но не той, которую лицемерно навязали римлянам Антоний и Октавиан, а во имя охлократии истинной, не зависящей от сената и олигархов.
Мимо проходил молодой продавец, толкая перед собой двуколку, на которой стояли бочонок, кувшин и оловянные кружки.